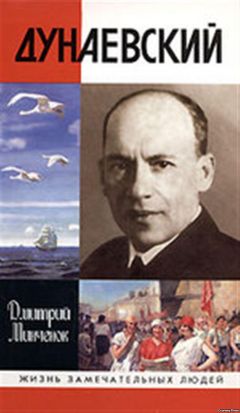Шорох концертных туфель перемежался грохотом военных сапог. Штатский Дунаевский и военный Александров по-разному относились друг к другу и к той музыке, которую исполняли. У них были разные масштабы. Генерал недолюбливал председателя Союза ленинградских композиторов. Как-то Сталин спросил генерала Александрова: "Почему вы в своём ансамбле не исполняете произведений Дунаевского? Он же исполняет в своём ансамбле ваши?" Александров отшутился.
Говорили, что Александров свою профессиональную зависть совмещает с бытовым антисемитизмом. Пик их соперничества наступил в 1943 году. Сталин приказал создать гимн СССР. Ни у кого не было сомнений, что этим гимном станет "Широка страна моя родная" Дунаевского. В этом сомневался только Сталин. Он отдал предпочтение старой музыке Александрова — "Гимну большевиков". Для проформы организовал конкурс, в котором принимал участие даже Шостакович. Но всё было напрасно. Сталин разрешил написать новый текст Михалкову и Эль-Регистану. На том история с гимном и закончилась.
"Жизнь — это ужасная штука, — писал Дунаевский, — не потому, что жить плохо или неинтересно, нет, а потому, что если ты хочешь жить хоть чуть поумнее, почеловечнее, если ты ищешь маленькой красоты, романтики чувств или поступков, то ты неизбежно столкнёшься лбом с проклятием жизни, проблемами, которые ужасающе просты в своей циничной откровенности. И которые тем не менее представляют собой краеугольный камень всех разнополых человеческих отношений".
Свои романы на стороне он называл поисками маленькой красоты. Можно быть уверенным, что в нагрузку к своей любви Гаярина получала столько любопытных взглядов от сотрудников коллектива, приходивших к Исааку Осиповичу в купе, что мало не покажется. То ли по совместному негласному уговору, то ли по собственной инициативе днём Наталья Николаевна из купе носу не показывала, отсиживаясь в тесной и маленькой каморке. Зная её беззаветную преданность Исааку Осиповичу, можно догадаться, что она могла отказаться от всего, лишь бы не компрометировать своего бога. То знакомство в поезде случилось уже довольно давно. Ушли в прошлое их встречи в филармонии. Порыв сменился прозой. Исаак Осипович жаждал новой бури. А Наталья Николаевна была женщиной самоотверженной, старалась стать приложением к Исааку Осиповичу, его тенью. И ей это даже иногда удавалось.
Так они и ехали, каждая со своим грузом. Одна — с воспоминаниями о прошлом, вторая — с надеждами на будущее. Но Евгений Исаакович убеждён, что среди всех фантазий композитора неизменно присутствовал образ матери его сына Генички — Зинаиды Сергеевны Дунаевской. Сам Исаак Осипович, влюбляясь, на мой взгляд, в конце концов разуверился в своей страсти, но не в себе самом. И для него было большой наградой, что Зинаида Сергеевна в конце концов его не оттолкнула, а стала ему другом и верным товарищем.
Пашковой хотелось быть женой, а не возлюбленной. Но всё упиралось в традиции. Хотя Дунаевский давно отошёл от иудаизма, никогда не чувствовал себя религиозно связанным, не ходил в синагогу — развестись со своей женой он не мог. Причём, по словам Евгения, его мама была готова дать развод Исааку Осиповичу. В неё был влюблён Фёдор Фёдоров, она могла быть спокойна за свою жизнь. Но на этот шаг не мог пойти сам композитор. Завещанная предками моногамия и горячая любовь к сыну не позволяли ему сделать шаг в сторону разрыва.
Никто не может сказать, что Дунаевский был фальшив в своих мыслях, как никто не может сказать, что он был прихвостнем эпохи. Он был гений. Мандельштам тоже гений. Почему они не сходились, как два берега реки? Один был гением смерти, другой — гением жизни. Что для Мандельштама было фальшью и предчувствием смерти эпохи, то для Дунаевского — радостью и светом. Разная природа слуха. И оптимизм у них был разный. Кто возьмёт на себя смелость утверждать, что Дунаевский плохой, потому что получил несколько Сталинских премий? Он был глух к фальши Сталина. Потом, ближе к собственной старости, он её почувствовал. Мандельштам почувствовал раньше и поплатился жизнью. Природа муз — разная, как рост травы под солнцем.
Поезд был в пути, когда машинист получил экстренное сообщение о переходе границ Советского Союза германскими войсками. Секретная телеграмма "пришпилила" жирный чёрный состав, с песнями ползущий по городам и весям державы, к маленькой станции Ясиноватая на переезде из Ростова-на-Дону к Донбассу.
За тысячи вёрст от Внукова Дунаевского вызвали в кабинет начальника железнодорожной станции. Начальник был испуган. В секретной телеграмме из области сообщали о начале войны. То же самое, только для всех, передавал диктор через каждые пятнадцать минут. Правительственное сообщение о наступлении немцев завершалось обещанием моментально изгнать врага. Это тоже породило проблему. Местные начальники не знали, можно ли давать слушать радио людям. А вдруг начнётся паника? Радио то включалось, то отключалось. Власти то боялись паники, то вдруг начинали верить, что диктор объявит о том, что это чудовищная шутка и враг уже бежит. И любовь куда-то разом ушла, и надо было думать о другом: не о музыке, не о песнях, не о кознях товарищей, а о том, что есть семья, сын, надо защищать самое родное и дорогое. Назад дороги не было.
Наступил хаос звуков. Всё трещало, лязгало, шуршало — бумага с треском рвалась, кто-то расстилал газету, чтобы на ней крошить яичную скорлупу. Люди думали о мусоре, хотя сами, с высоты бреющего полёта, казались мусором для немецких самолётов. Самыми ужасными звуками были гудки застрявших поездов. Они ревели, как смертельно подстреленные животные. Стрелки хищно клацали металлическими створками, направляя поезда то на одну, то на другую ветку. Все поезда хотели попасть в Москву одновременно.
В кабинетах царило молчаливое ожидание, изредка прерываемое бранными криками в трубку, истерическими возгласами "всем выйти отсюда!" и сухим щёлканьем счётов, на которых подсчитывали число застрявших поездов. Начальники поездов кричали: "Нам надо срочно в Москву!" — "Всем надо!" — истошно орали в ответ белогубые от страха начальники железнодорожных станций. Кто-то предлагал "заморозить" все составы на месте и дождаться, пока война кончится. Более дальновидные понимали, что быстро ничего произойти не может, а людям надо поскорее вернуться домой. Неожиданный сбой пропагандистской машины, сообщавшей только об успехах и победах, довёл кое-кого до "психических прыщей" — истерики, болезни, срыва. Наиболее одурманенные называли войну чудовищной провокацией и звонили в НКВД с криками: "Сталин ничего не знает!"