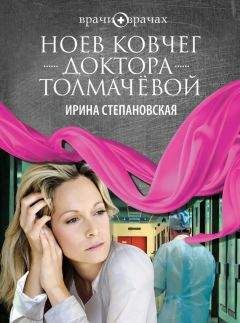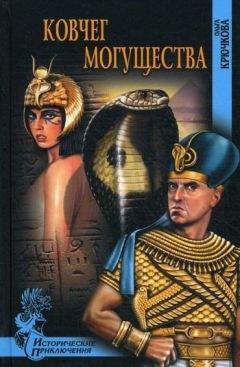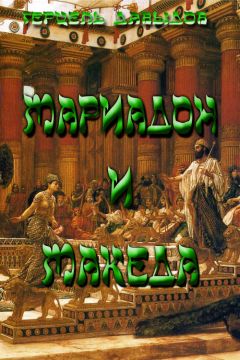Магомед-Амин пробыл в Калуге три дня, живописно повествуя о быте и нравах черкесов, своих турецких приключениях и интригах Сефер-бея, расколовших народы Черкесии.
Вместе с тем Магомед-Амин сделался весьма светским человеком, переняв от мекканских паломников особые молитвенные приемы, а от турецких сановников — изящество в костюме, оборотах речи и другие аристократические манеры.
Немалое впечатление произвел щеголеватый Магомед-Амин и на калужское общество, когда горцы явились на гулянье в сад по случаю праздника весны 1 Мая.
Через несколько дней после отъезда Магомед-Амина уехал и Гази-Магомед. Он направился в Дагестан с твердым намерением не возвращаться без своей жены Каримат.
С ним отправились мюриды Тауш, Абдула-Магомед и Джамалуддин. Убедившись, что имам окружен вниманием и находится в полной безопасности, они решили окончательно вернуться в горы.
Магомед-Амин вернулся на Кавказ с полномочиями старшины абадзехов и намеревался водворить в крае спокойствие, чтобы уберечь горцев от выселения. Но в Черкесии уже началось брожение умов. Магомед-Амин оказался между двух огней: одна часть черкесов упрекала его за то, что он не может остановить Евдокимова мирным путем, а другая — за то, что он не сумел объединить черкесов для общего и решительного отпора. Тем временем турки продолжали засылать своих эмиссаров, обещая помощь, если черкесы объединятся и выступят единым фронтом.
Магомед-Амин увидел, как быстро все изменилось, и понял, что в такой ситуации шансов на успех почти не остается. Тогда, в марте 1861 года, он решил отправиться в хадж, надеясь получить разрешение своих сомнений перед лицом Всевышнего. А заодно посетить Стамбул, чтобы убедиться, сколь серьезны намерения султана.
Барятинский и военный министр генерал от артиллерии Н. Сухозанет походатайствовали, чтобы Магомед-Амину был выдан заграничный паспорт сроком на три года и пенсия за четыре месяца вперед. Получив и то и другое, Магомед-Амин послал надежных людей в Дагестан за своей семьей, которая была перевезена в Екатеринодар. А сам, с делегацией почетных людей, направился на новые переговоры к Барятинскому. Но в Ставрополе их надолго задержали под предлогом карантина. Тем временем Магомед-Амин получил известие, что семья его уже находится в Керчи, а жена больна. Тогда он поручил возглавлять делегацию абадзехскому старейшине, а сам в конце апреля отбыл в Керчь. Оттуда он, вместе с семьей, отправился в Стамбул, а затем и в Мекку.
Прошел год, как Шамиль и его семья поселились в Калуге.
Завелись прочные знакомства, визиты сделались реже, и у имама появилось время отдаться своему любимому занятию — чтению книг. Стараниями профессора Казем-бека и директора Императорской публичной библиотеки их у Шамиля было теперь в достатке. К тому же балы и приемы обычно затягивались до полуночи, а Шамиль привык жить в согласии с природой, ложась с появлением луны и вставая с восходом солнца.
Вместо Шамиля на приемы регулярно являлись другие калужские горцы, чувствовавшие себя намного свободнее без строгого руководства. Особенно преуспели в этом Хаджияв и его постоянный спутник Грамов, убедившие Шамиля, что совсем отказываться от приглашений было бы неучтиво. Хаджияв развлекал любопытных барышень и учил их танцевать лезгинку. Те, в свою очередь, не оставляли Хаджиява без любезного внимания и подарков. Он уже бегло говорил по-русски, а новые фразы записывал в отдельную книжицу арабскими буквами и учил наизусть. Со временем Хаджияв начал употреблять благовония, украшать свои руки кольцами и перестал брить голову, сделавшись похожим на казака. Ходили даже слухи, что Хаджияв имел несколько романтических приключений с отважными светскими дамами, но сам он это яростно отрицал. Тем не менее, заметив, как мюрид теряет свой былой вид, Шамиль счел необходимым привести его в чувство.
Желая загладить вину, Хаджияв искал способ угодить Шамилю. Однажды он с удивлением обнаружил на местном базаре орехи, мед и сушеные абрикосы, которые продавец усердно нахваливал, утверждая, что привез их из Гимров — родного села Шамиля. Хаджияв купил у него целую корзину и поспешил домой. Шамиль сначала обрадовался покупкам, признал в абрикосах знакомый с детства запах, но затем вдруг глубоко опечалился и несколько дней не выходил из дому, предаваясь посту и молитвам.
Руновский очень хотел увидеть лица жен и дочерей Шамиля, чтобы сравнить их с описаниями мадам Дрансе или Вердеревского, но увидеть их «вживую» ему так и не пришлось. Чадры и покрывала, скрывавшие их лица, Руновскому казались здесь, в Калуге, совершенно ненужными. Однако Хаджияв объяснил ему, что «у нас такой закон», а кроме того, он считал, что если женщина будет ходить с открытым лицом, то солнце и морозы скоро превратят ее в старуху, вынужденную употреблять множество хитростей, чтобы придать своему личику хотя бы видимость свежести. Да и зачем, недоумевал Хаджияв, показывать свое лицо чужим мужчинам, не лучше ли радовать собственного мужа?
Лишь однажды Руновский столкнулся на лестнице со старушкой Вали-Кыз, не успевшей опустить на лицо покрывало. Женщина смутилась так, что долго вообще не показывалась из своей комнаты. Руновский передал для нее красивый платок, после чего они сделались добрыми знакомыми.
Видеть лица жен и дочерей Шамиля могли лишь светские дамы, делавшие им визиты. Но увидеть женщин шамилевского дома захотели и великие княгини. Из Петербурга пришла депеша с просьбой представить ко двору фотографические портреты горянок. С этим калужские дамы и явились к Шамилю, но имам решительно им отказал. Причин для отказа было множество. Одна из них состояла в том, что Шамиль уже видел фотографию Шуайнат, присланную ему из Моздока, где она гостила у родных по пути в Калугу. Там она была сфотографирована без платка и в европейском вечернем платье, напоминавшем ей юные годы в родительском доме. Шуайнат не подозревала, что кому-то придет в голову прислать это фото Шамилю. Увидев портрет, Шамиль в гневе воскликнул: «Лучше бы я увидел ее голову, снятую с плеч!»
Встретив противодействие Шамиля, калужские дамы обратились за содействием к известному эмансипатору Арцимовичу. Губернатор вынужден был учитывать желание великих княгинь и обращался к Шамилю несколько раз, пока тот наконец не согласился. Шамиль, однако, поставил условие, чтобы фотографом непременно была женщина. Он пребывал в полной уверенности, что таковой в природе не существует, но ошибся. Женщина-фотограф, жена Гольдберга, вскоре явившаяся в дом Шамиля в сопровождении Руновского и нескольких знатных калужанок, управлялась с аппаратом не хуже своего супруга. Портреты вышли на славу и пользовались большим успехом в Петербурге.
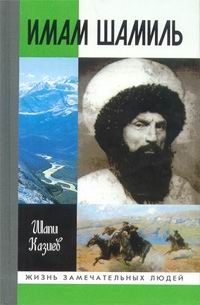

![Марк Азов - «Мир приключений» 1987 (№30) [Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов]](https://cdn.my-library.info/books/21645/21645.jpg)