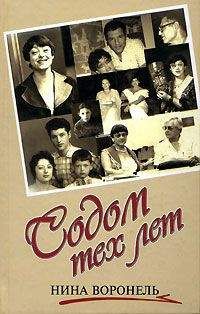Однако порой я вырывалась из заколдованного круга сочиненной мною реальности в истинную реальность эмигрантского существования. Я делала этот рывок почти всегда с единственной целью – заработать немного денег. Дома в Израиле меня ожидала толпа недоучившихся детей и пожилых родителей, во всем полагавшихся на нас с Сашей. Мы с разгону купили квартиру себе и согласились, чтобы все родственники тоже купили себе квартиры, обязавшись выплачивать взятые ими ссуды, что было невозможно выполнить из одной Сашиной, хоть и профессорской, зарплаты.
В дальнем прицеле этот отчаянный поступок оказался очень мудрым и практичным, но в первые годы, пока мы только осваивались в новой жизни, мы едва сводили концы с концами, а порой не сводили вовсе. И я постановила, что, кроме небольшого, практически символического, гонорара за пьесы, приплюсованного к изрядной квартплате за роскошную студию в Гринич Вилледж, я обязана привезти домой еще какие-то деньги. Для этого необходимо было написать и начитать максимально возможное количество передач на радиостанции «Свобода».
Радиостанция «Свобода» была в Нью-Йорке единственным местом, дававшим бывшему советскому гуманитарию хоть какой-то грошовый заработок. В результате там образовалась истинная социальная плешка, где можно было встретить почти весь культурный русский Нью-Йорк.
Там я познакомилась с молодыми, еше не оперившимися и не зазнавшимися славными ребятами Петей Вайлем и Сашей Генисом, которые впоследствии, заматерев, похоже, забыли, что именно мы с Сашей издали их первую книгу «Потерянный рай». Книга была отличная, очень смешная, но имени у нынешних прославленных критиков еще не было никакого, и ни один уважающий себя издатель не хотел ради них рисковать своей с трудом добытой копейкой.
Мы были первыми издателями не только Вайля и Гениса, но и нескольких других авторов, отмеченных впоследствии отблесками славы разной степени яркости, у нас вышли первые «Да-дзы-бао» Игоря Губермана, первая книга Юрия Милославского «Укрепленные города», первый роман Марка Гиршина «Брайтон Бич», первый поэтический сборник Михаила Генделева «Въезд в Иерусалим», единственное собрание стихов и эссе покойного Ильи Рубина «Оглянись в слезах».
Но я что-то не припомню, чтобы хоть один из этих авторов поблагодарил нас за наши старания – они почему-то воспринимали как должное затраченные на них труды и деньги. А Генделев даже отказался забрать у нас тираж своего поэтического сборника за то, что кто-то (уже не помню, кто) ответственный за типографские работы выбросил из него несколько страниц многоточий. Многоточия были наструганы по принципу: «В каждой точке только строчки, – догадайся, мол, сама» и шли шестистрочными строфами, насчитывая страниц двенадцать. Для правильного числа страниц в типографской тетрадке их был излишек. Тут недогадливый редактор согрешил – не догадался и страниц пять из многоточных удалил. Генделев объявил, что весь смысл его поэмы теперь искажен и книг своих не забрал. Они несколько лет провалялись под столом в редакции, а потом их пришлось выбросить за недостатком места.
Хуже всех поступил с нами талантливый поэт-эссеист Илюша Рубин – он скоропостижно скончался совсем молодым, так и не осуществив свои многообещающие замыслы. Впрочем, наблюдая копошение человеческого муравейника, особенно наглядное в суженном поле эмигрантского бытия, я иногда ловлю себя на богохульной мысли, что только таким образом он умудрился оставить о себе исключительно светлую память – ни с кем не поссорился, никому не встал поперек горла, никого не задел неудачей или успехом.
Но я забегаю вперед – в тот первый заграничный год мы еще и не помышляли об издании книг, не только чужих, но и своих, и потому мои нью-йоркские встречи того времени были начисто лишены какого-либо корыстного элемента. Мимо меня по коридорам радио «Свобода» степенно проходили или пробегали трусцой самые разные литературные личности – то застенчиво промелькнет в отдалении лохматый силуэт Юрия Мамлеева, то самоуверенно заслонит дверной проем высокая фигура Аркадия Львова. Некоторые из собратьев по перу поначалу хорохорились и храбрились – мы, мол, этих америкашек с их гамбургерами вместо искусства, шапками закидаем, но в основном, все были подавлены исключительным равнодушием благополучного Запада к нашим, с таким трудом вывезенным, толстым рукописям, блистательно разоблачавшим драконовский советский режим.
Кроме радиостанции «Свобода», находящейся на содержании американского правительства, русско-еврейская пишущая братия кучковалась еще вокруг газеты «Новое русское слово», живущей за собственный счет. Заработок там был, конечно, далеко не тот, что в американском радиозаведении, и простор не тот – всего несколько малогабаритных страничек, и все же кое-кому удавалось небольшие статейки там тиснуть, чтобы хоть увидеть свое имя, набранное типографским шрифтом. В жуткой пустыне безвестности, какой предстал перед российским интеллигентом американский континент, это было хоть и жалкой, но отдушиной.
Мне тоже посчастливилось пару лет состоять постоянным автором этой газеты и даже получать за свои статьи приличные гонорары, что случалось там редко. Эта мелкая эмигрантская удачка свалилась на меня, как гром среди ясного неба, так как я вовсе не пыталась пристроиться в газете – просто меня неожиданно постигла благосклонность ее главного редактора, знаменитого Андрея Седых. Это произошло чудесным образом, почти как с Корнеем Чуковским.
Вообще, на тернистом пути литературных скитаний меня не раз осыпали своими милостями высокопоставленные старцы, причем совершенно бескорыстно, без всяких с моей стороны эротических заманок. Так, последним в цепи был израильский мультимиллионер, банкир с причудливым для моего слуха именем Хозе Мирельман, который почти при каждом моем визите в его банк, отваливал небольшую для него, но для меня чувствительную, сумму на разные мои проекты – то 5000 долларов на журнал, то 10000 долларов на дубляж фильма по моему сценарию. И хоть выписанные им чеки были украшены титлом «Акции Панамского канала», это была вовсе не «панама», а настоящие полноценные доллары, которые к тому же не требовалось возвращать.
Андрей Седых акциями Панамского канала не владел, и чеков с тремя, а то и четырьмя, нулями мне не выписывал. Да я его об этом и не просила. Я вообще ни о чем его не просила, всецело поглощенная звездопадом рецензий на свой спектакль в англоязычной прессе.
Вдруг неожиданно где-то в самом конце прогона в Интерарт Театре мне принесли «Новое русское слово» с огромной, во всю страницу, хвалебной аналитической статьей, написанной самим главным редактором. Я была польщена – Андрей Седых, как представитель добротной русской культуры, понял мои пьесы гораздо тоньше, чем все американские рецензенты вместе взятые. Это, впрочем, небольшая похвала, если учесть, как мало они понимали.