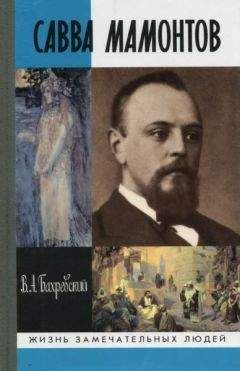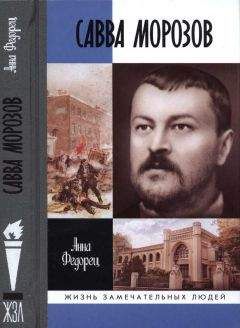Так нежданно-негаданно произошло знакомство Нестерова с семейством Мамонтовых, узелок завязался, а ниточка потянется…
Стеснительность мешала Нестерову поспешить к новым, уж очень знаменитым знакомым, но случай снова был тут как тут. Он встретил Мамонтовых в Хотькове. Они собирались ехать к Троице, осматривать развалины древней церкви.
— Хотите я покажу вам храм, целехонький, деревянный, а стоит со времен великого князя Василия, отца Грозного.
Все обрадовались предложению.
Посмотрел Михаил Васильевич, как путешествуют богатые. До Троицы ехали на поезде, в первом классе и бесплатно, дорога-то своя. На станции ожидали отправленные заранее экипажи, ехать нужно было в Благовещенское, всего три версты.
Михаила Васильевича пригласили в коляску Елизаветы Григорьевны, где ехали Поленова и Репина.
— Я видела ваши рисунки в «Севере», — сказала Елизавета Григорьевна. — «Наина в образе кошки» — очень интересно и жутко. «Живая голова» тоже хороша.
— А я помню: «Пустынница», «Дети-крестоносцы», — ободряя художника, вступила в разговор Репина.
Нестеров покраснел, опустил глаза:
— Я этим зарабатываю на хлеб.
Поленова пришла ему на помощь:
— Михаил Васильевич выставлялся в Училище живописи, ваяния и зодчества. Мой брат очень высокого мнения о вашем даровании.
— Дарование! — Нервно сцепил пальцы. — Дарование должно быть на холстах. Любят у нас говорить про эту шапку-невидимку.
— А что вы пишете здесь, под сенью Троицы? — спросила Елизавета Григорьевна.
— Пустынника хочу написать. Пустыньку и пустынника.
— Славно-то как! Я бы очень хотела, чтобы у вас получилось, — сказала Елизавета Григорьевна. — Наша пресса, многие наши художники безобразно относятся к религии. Ерничество, смешки да издевки… А смешками можно убить любое доброе дело. И даже само государство. Я рада, что в молодых людях пробудился страх за святыни. Мы ведь многое утеряли…
Впереди замелькали избы, показалось Благовещенское.
В письме в Уфу милой Саше Нестеров обстоятельно рассказал о поездке в Благовещенское. «Я разыскал старосту, — писал он, — мужика умного, степенного и себе на уме. Он сразу смекнул, в чем дело, и повел нас в церковь, которая снаружи не делала собой исключения из типа подмосковных деревянных построек этого века, но внутри она поражает своей оригинальностью… Она состоит из пяти частей, как бы вставленных одна в другую. Тут все веет давно прошедшим, выхватывает зрителя из его обстановки и переносит в былое, может быть, лучшее время. Подробно осмотрев как церковь, так и ризницу, где нашли много набоечного облачения (Елизавета Григорьевна и Елена Дмитриевна были членами Археологического общества. — В. Б.), многое зарисовали и усталые от полноты впечатлений, отправились подкрепить себя. Против церкви нам устроили самовар, и в присутствии чуть ли не всего села мы услаждали себя питьем и яствами… В Абрамцево мы поехали на лошадях, а часа через два были на месте. Абрамцево, имение старика Аксакова, — одно из живописнейших в этой местности. Сосновый лес, река и парк и среди всего — старинный барский дом, с многочисленными службами и барскими затеями, которые я опишу тебе завтра, а теперь пойду спать…»
Так, 17 июля 1888 года Михаил Васильевич Нестеров оказался в Абрамцеве. Царь Случай! Но именно здесь он стал Нестеровым. Не в Жуковке, у Поленова, не в Гефсиманском скиту у Бизяихи, не в родной Уфе, а в Абрамцеве.
Весь следующий день Нестеров провел, осматривая художественные богатства гнезда Мамонтовых. Картины и скульптуру, постройки Гартмана и Ропета и особенно внимательно церковь. К иконам, написанным самой художественной славой России, Нестеров отнесся критически. «…Местный образ „Нерукотворный Спас“, — делится он впечатлениями с сестрой своей, Александрой Васильевной, — писал и недавно переписывал Репин. На меня сделал этот образ впечатление современного идеалиста-страдальца с томительным ожиданием или вопросом в лице, человек этот прекрасный, умный, благородный, и пр., пр., но… не Христос! Рядом с ним, только несколько левее, царские двери, и на них „Благовещение“ работы Поленова, первая вещь, написанная по возвращении его из Палестины. Обстановка и костюмы веют Востоком, всё изящно и благородно, но чего нет… нет того, что есть в рядом находящемся творении Васнецова „Благодатное небо“ или „Дева Мария с предвечным младенцем“. Эта вещь может объяснить Рафаэля… Теперь упомяну лишь о „Сергии“ того же Васнецова. Тут как нигде чувствуешь наш родной север. Преподобный Сергий стоит с хартией в одной руке и благословляет другой, в фоне — древняя церковка и за ней дремучий бор, на небе — явленная икона „Св. Троицы“. Тут детская непорочная наивность граничит с совершенным искусством».
Эта встреча с Васнецовым-иконописцем стала для Нестерова пророческой.
Мог ли молодой художник даже помечтать, что через два года он поднимется на леса Владимирского собора и станет рядом с обожаемым художником, будет писать по его эскизам, потом и по своим. А уже через три года его больно ранит критик Соловьев, который в похвалу Васнецову скажет в душевной простоте: у вас есть последователи и именно — Нестеров! В письме к все той же Саше, к сестре своей, Михаил Васильевич горестно и гордо отречется от последователя: «До сего дня я был и есть лишь отклик каких-то чудных звуков, которые несутся откуда-то издалека, и я лишь ловлю их урывками… Истинный художник есть тот, кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости».
Благожелатели, которым казалось, что они делают честь молодому художнику, в конце-то концов развели Васнецова и Нестерова на десятилетия.
Михаил Васильевич в том давнем письме 1891 года защищал свое искусство, дарованное небом «я» с горестной безнадежностью: «И последователь я его лишь потому, что начал писать после него (родился после), но формы, язык для выражения моих чувств у меня свой». Справедливо. Религиозные картины Нестерова в духовности, в молитвенности превосходят в большинстве своем Васнецова. Его святые — это беззвучные, светлые слезы души высокой, трепещущей от любви к Господу, к русской земле, к русской святости. Эта замершая, не сорвавшаяся с ресниц слеза закипела в сердце Нестерова в Абрамцеве, у васнецовского Сергия, у тоненьких березок, таких странных для иконы, но без которых икона потеряет половину чудного света.
Васнецов прошел мимо своего открытия, а Нестеров увидел это и через это родился заново.
Возможно и, наверное, так оно и есть, — наше узнавание васнецовского мотива в картинах и в иконах Нестерова — все то же его несчастье — «писать начал после», потому что «родился после». В Абрамцево попал не первым, не первым из художников был поражен Ворей, ее прозрачностью, черными пятнами елей на серебре неба, на золоте лесов.