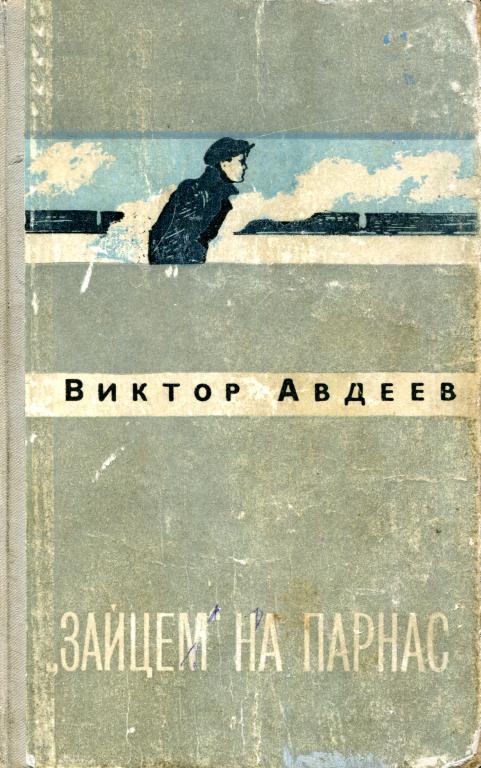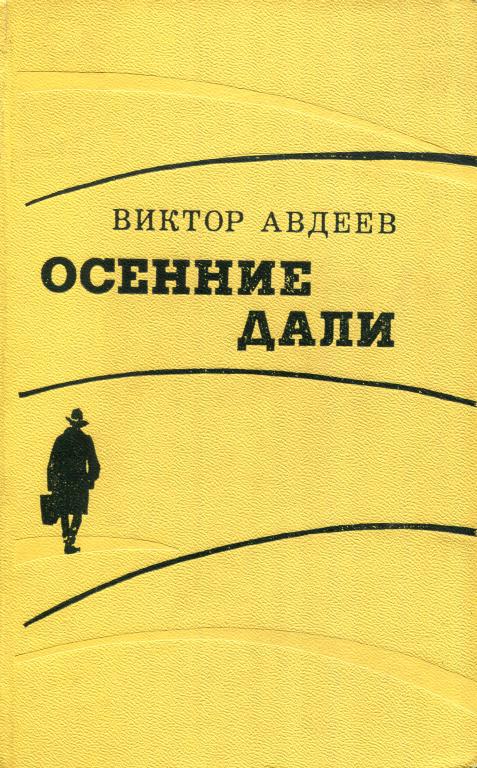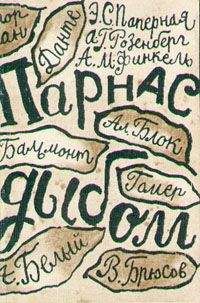не хотите, тогда, может, не откажется Наль?
И он поставил ему на пол коробку с форелью.
Собака с жадностью набросилась на еду. За время войны она сильно похудела: за ушами обозначились впадины, торчали ребра, в уголках глаз собирался гной. Желтая шерсть потеряла атласный блеск, местами ершилась, в ней завелись блохи. Теперь Наль уже месяцами не знал теплой ванны: не было мыла, дров, за водой приходилось ходить на Волгу. Пес или часами лежал на паласе, дрожа и под ватной попонкой, — как все короткошерстные, он был зябок, — или понуро бродил за хозяйкой, скулил от голода. Людмила Николаевна с ужасом замечала, что ее Наль теряет свои навыки, думает лишь о пище, перестал с ней «разговаривать», иногда гадит в комнате. И сейчас хоть и противно было одолжаться у офицера, Людмила Николаевна, по свойственной женщинам логике, решила, что одолжается не она, а собака, ну, а с животного и спрос особый.
— Понравилось, — усмехнулся Мориц Юрмшер, глядя, как Наль вылизывает банку.
— Если бы не война, он не стал бы есть ваши объедки, — колко ответила Людмила Николаевна. — Вот уж правда, что животные благороднее человека. У них нет глупых представлений о породистости, расе. Они не объединяются: скажем, таксы против шпицев, чтобы истреблять собачий род.
Мориц Юрмшер снисходительно улыбнулся, показав свои крепкие желтые зубы.
— Это потому, что собаки неразвиты… как и некоторые нации.
Облизнувшись, Наль подобрал крошки с пола и положил свои лапы на грудь обер-лейтенанту, оживленно махая обрубком хвоста и заглядывая в глаза, как бы спрашивая: нет ли еще чего-нибудь на закуску? Мориц Юрмшер снисходительно потрепал его за ухом и пошел из комнаты. Собака побежала за ним.
И случилось так: Людмила Николаевна, только раз побывав у «жильца», сразу прекратила свои посещения, а Наль, наоборот, их начал. У обер-лейтенанта всегда находились черствые куски от пайка. Пес быстро стал поправляться, опять появился у него загривок. Когда Людмила Николаевна не пускала его к нацисту, он выл на весь дом, царапал дверь, просясь, чтобы его впустили, и за Юрмшером бегал, как за хозяином. Такая привязанность вызывала у Людмилы Николаевны самую настоящую ревность, которой она сама стыдилась. Почему-то ей вспомнился сын. Как быстро Наль сменил любовь к Вячеславу на любовь… к его врагу. Да, собака все-таки собакой и остается: почти всякую можно купить за ржаную горбушку. Обидно было еще и то, что обер-лейтенант отнюдь не заискивал перед Налем. Мориц Юрмшер не пускал его на диван, «чтобы не разводил блох», редко гладил, не «разговаривал» с ним: верный своей привычке, он с псом был строг и требователен. И тем не менее Наль льнул к нему.
Однажды с утра, когда Мориц Юрмшер только что уехал в охранку, Людмила Николаевна начала действовать по-другому: она сняла с вешалки его летнюю пилотку и, сунув Налю, чтобы он обнюхал, сказала:
— Враг. Плохой.
Собака громко и радостно залаяла:
— Гав. Гав.
— Ах ты, туполобый пес. Это же… тьфу. Враг.
И она с сердцем швырнула пилотку на пол. Наль, думая, что с ним играют, бросился за ней, схватил зубами и, закидывая назад голову, стал носиться по квартире.
— Я, Налик, признаться, была более высокого мнения о твоих умственных способностях, — с горечью вздохнула Людмила Николаевна. И тут же рассмеялась над собой. — Нечего сказать, хороша: дожила до старости, а какими глупостями занимаюсь.
В этот вечер с приходом Морица Юрмшера Наль сразу проскользнул в его комнату. На дворе давно начались морозы, и в квартире, которая почти не отапливалась, было сыро и холодно. Чтобы согреться, не жечь даром дорогого керосина, Людмила Николаевна рано ложилась спать. В одиннадцатом часу ночи, так и не дождавшись Наля, она была вынуждена постучаться в комнату обер-лейтенанта. Здесь в голландке пылал огонь. Перед открытой дверкой, в которую виднелись красные переливающиеся угли, во весь свой рост вытянулся Наль: видно, сытно поел. В углу у двери валялись кости копченой баранины, хлебная корка.
— Ты что же это, Налик, не идешь домой? — сказала Людмила Николаевна.
Пес глянул на хозяйку, перевел взгляд на жаркие угли, прижмурился — и не шевельнулся. Он знал, что в его комнате не топлено.
— Ну чего же ты, — удивилась Людмила Николаевна. — Разнежился? Идем, идем, лентяй.
Пес замахал обрубком хвоста, поглядел на Юрмшера и не встал. Голос у Людмилы Николаевны дрогнул, когда она спросила:
— Остаешься?
Морис Юрмшер с грязными ногами лежал на диване и курил сигарету. Он не гнал собаку, охранник из нее был отличный. Людмила Николаевна стояла бледная, растерянная. Последнее, что ей было дорого в жизни — собака, выкормленная ею и сыном с щенячьего возраста, сама уходила от нее. Она чувствовала на себе насмешливый взгляд обер-лейтенанта, уж он-то, конечно, ей не поможет. И тогда, охваченная гневом, возмущенная Налем, с которым она делила последний кусок, Людмила Николаевна сделала то, чего не позволяла себе раньше: пнула его ногой, замахнулась:
— А ну сейчас же домой! Где мой ремень?
Пес вдруг оскалил длинные клыки, розовые в отблеске огня, и тихо, угрожающе зарычал. Шерсть его встала и почернела на загривке, уши были заложены назад, а лапы подобрались. Пораженная, не веря своим глазам, Людмила Николаевна отступила на шаг к двери. Ее Налик, дорогой любимый Налик, мог броситься на нее и порвать?
И тогда она услышала уверенный, иронический голос Юрмшера:
— Разве вы забыли, фрау Глушкофф, что я вам говорил еще в сентябре? Наль чувствует во мне настоящего хозяина, викинга. О, зов предков — это непобедимый зов. У Джека Лондона, хоть он и янки, есть неплохая книжка по этому вопросу. Я не советую вам замахиваться на пса: Наль фон Нордвейг этого не позволит.
Поглядев еще раз на собаку, Людмила Николаевна молча вышла. И, неподвижно сидя в своей комнате, она слышала, как за стеной смеялся обер-лейтенант. Эту ночь и все последующие Людмила Николаевна ночевала в своей комнате одна.
IV
Снега омертвили землю. Наступил декабрь. Под Москвой загремела мощная канонада наступления, и войска Красной Армии железными граблями стали очищать родную землю от захватчиков. Орудийный гул все ближе накатывался на город.
Обер-лейтенант войск СС Мориц Юрмшер теперь подолгу задерживался в охранке, стал груб с Налем; его денщик снял со стены ковер, уложил чемоданы. Как-то офицер с циничной улыбкой сказал Людмиле Николаевне:
— Имперская армия из тактических соображений, возможно, отойдет на зимние квартиры. А уж разная партизанская сволочь в городе подняла голову. Но мы их быстро успокоим. Скоро вы увидите на площади шесть новых качелей с намыленной веревкой. Герр комендант Франц-Гаус фон