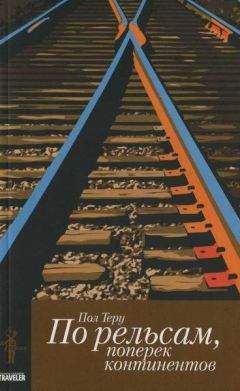А что же с билетом, который мне обещали заказать?
— Мы искренне пытались достать вам место, — сообщил сотрудник посольства в Гуаякиле. — Но все оказалось раскуплено на несколько дней вперед! Если вы захотите пожить в Гуаякиле, возможно, мы отправим вас назад позже, но ничего обещать не могу.
— Почему этот поезд такой популярный? — удивился я.
— Он не популярный, сэр. Он маленький.
Однажды вечером в Гуаякиле один ирландец средних лет в плохом костюме заявил:
— Вы в жизни не поверите, о чем я собираюсь вам рассказать.
— Сделайте милость, — ответил я. Его манеры были безупречны, голос мягок, а одежда выдавала человека, которому все равно, подходит ли к костюму его галстук. Он говорил так просто и задушевно, что я принял его за священника.
— Я был иезуитом, — сказал он. — Вот уже пятнадцать лет, как я получил свой сан. Я проходил послушание в Ирландии и Риме, а когда меня рукоположили, поехал в Штаты. Некоторое время я был миссионером в Эквадоре, а потом меня отозвали в Нью-Йорк. Я часто бывал в Белфасте — там осталась моя семья. Это было очень плохо в семьдесят втором — «Кровавое воскресенье» и жестокость британцев[42]. Моего брата ранили, у моей сестры сожгли дом. Я был потрясен до глубины души. «Возлюби ближнего» — одна из заповедей, но как я мог возлюбить ближнего после всего, что увидел? Конечно, это не свалилось на меня в одночасье, это пришло постепенно. Я всегда был тверд в вере, но после той поездки не смог подавить сомнения. И когда вернулся в Нью-Йорк, то пришел к епископу и попросил отпуск на шесть месяцев. Вы же понимаете, это вполне нормально. Ведь священники тоже люди. Они могут иногда выпить лишнего, и у них бывают человеческие проблемы, им тоже требуется время, чтобы прийти в себя. В отпуске мне не нужно было самому служить мессу, только прислуживать на ней. Вы понимаете, что я имею в виду.
Мой епископ был ошарашен. Он не мог поверить, что я обратился к нему с такой просьбой. Он признался, что давно составил список ненадежных служителей церкви. Он действительно имел такой список — тех, кто, по его мнению, рано или поздно все равно откажется от пострига. Забавно — меня в этом списке не было. Тем не менее он дал мне отпуск на шесть месяцев, как я просил, и сказал на прощание: «Ты еще вернешься».
У меня оказалось полно свободного времени — прислуживать на мессе вовсе не обременительно. Вот я и решил поработать страховым агентом. И я оказался очень хорош в своем деле! Я продавал страховые полисы по всему Нью-Йорку. Наверное, тут пригодился опыт священнослужителя, ведь, если предлагаешь кому-то застраховать свою жизнь, ты должен вызывать доверие. Деньги меня не интересовали. Мне было интересно встречаться с людьми, наблюдать за ними, когда они у себя дома. И ведь им было невдомек, что я священник. Для них я был простым торговцем, предлагающим свои полисы.
К концу шестого месяца я пришел к епископу и попросил еще об одном отпуске на шесть месяцев. Он был удивлен — о да, и еще как! — но ведь меня не было в его списке. Он даже улыбнулся мне и повторил: «Я знаю, что ты вернешься».
Но я знал, что этого не будет.
Это ведь совсем несложно — быть священником, не так ли? Впрочем, откуда вам знать! Но поверьте, это просто. Обо всех ваших нуждах уже позаботились. Не надо платить за квартиру, не надо покупать продукты. Не надо готовить, не надо делать уборку. Вы все получаете даром. «Вам не нужна машина, святой отец?» «Святой отец, вот тут для вас кое-какие мелочи!» «Мы можем чем-то помочь, святой отец? Вы только скажите!» Я не хотел всего этого, и я не хотел снова продавать полисы — в какой-то степени это тоже напоминало труд священника. Я не мог вернуться домой, но не мог и оставаться в Нью-Йорке. Я знал одно: мне надо куда-то уехать.
Я в последний раз побывал в Белфасте, повидался с родными, и политическая обстановка там была еще хуже, чем прежде. Мой брат поехал проводить меня на самолет, и, пока мы шли к месту посадки, я подумал: ты никогда меня больше не увидишь. Это был самый тяжелый поступок в моей жизни. Это было даже тяжелее, чем отказаться от сана, — повернуться спиной к брату и подняться в самолет.
Я сразу отправился в Эквадор. Я был здесь счастлив, и у меня еще есть здесь друзья. С тех пор минуло пять лет. Я женился на здешней женщине. Я никогда не был так счастлив за всю мою жизнь. У нас растет малыш, ему четырнадцать месяцев, и второй на подходе — вот почему сегодня моя жена не со мной.
Хожу ли я в церковь? Конечно, хожу. Я отказался от сана, но не отказался от веры. Я никогда не пропускаю мессу. Я бываю на исповеди. Вы должны понять: на исповеди я говорю не со священником, я говорю с Богом. Я приехал сюда по делу. Это не очень важное дело, но я пробуду здесь какое-то время.
Самое трудное для меня — ни с кем не делиться этим. Ну как прикажете сказать: «Я отказался от сана. Я женился. У меня дети»? Никто ничего не знает. Моя мать будет в ужасе. Но случились смешные и странные вещи. Несколько лет назад я получил письмо от сестры. Она написала: «Мы поймем, если когда-нибудь ты решишь перелезть через стену». Почему она так написала? А на прошлое Рождество другая моя сестра прислала мне немного денег. «Они тебе могут понадобиться» — вот что она написала. Раньше ей и в голову бы такое не пришло, ведь священник не нуждается в деньгах! Но я не смею встретиться с матерью. Думаю, я всегда брал на себя боль других людей, чтобы избавить их от боли. Поймет ли меня моя мать? Мне не дано постичь глубину ее понимания. Вы понимаете, что я имею в виду. Это неправильно. Я грежу о том, как побываю дома. Мне все время снится, как я приехал в Белфаст. Я вижу свой старый дом и поднимаюсь на крыльцо. Но я не смею войти, я застываю на ступеньках, и мне приходится уйти. Я вижу этот сон каждую неделю.
О да, я все время переписываюсь с ними. Мои письма о моей жизни в Эквадоре, о приходе и всем таком — это настоящие произведения искусства. И ни одного слова правды. Я знаю, что братья и сестры поймут меня, но это убьет мою мать. Поймите, ведь ей уже за восемьдесят. Она так хотела, чтобы я стал священником. Она жила ради меня. Но как только она скончается, я немедленно все брошу, чтобы вернуться в Белфаст, я в тот же день сяду на самолет. И это ранит меня больнее всего. Что она не может знать обо мне правду. И я никогда больше не увижу ее.
Вы считаете, что мне бы следовало обо всем ей написать? Хотел бы я набраться решимости, но у меня не поднимается рука. Знаете, что я скажу вам, Пол: напишите лучше вы. Из этого получится неплохая история, правда?
Для этого ирландца индейцы были народом, порабощенным судьбой, лишенным малейшего шанса что-то изменить. Для Хорхе Икацы индейцы являлись носителями культуры. Для моих дальних родственников Нореро индейцы обладали несомненными достоинствами и славным прошлым. Для подавляющего большинства прочих людей индейцы были лесорубами и водоносами, то есть неотесанной деревенщиной.