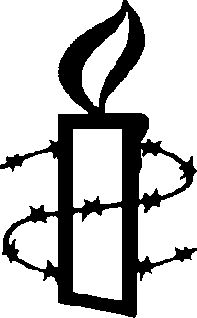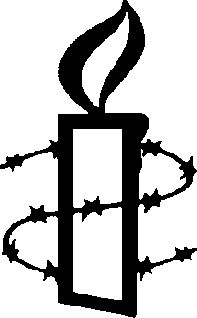Через 3 месяца пришло мое время уходить из 9 корпуса. Моя болезнь приняла неприятный оборот. Призванный хирург предложил перевод в 3 корпус – на операцию. Я не согласился. После операции требуется усиленное питание. Этого мне хирург не обещал. Он был готов меня резать, а не кормить. Итак, было принято компромиссное решение: меня перевели в 5-й корпус. Только несколько шагов отделяли 5-й корпус от 9-го – но это были 2 мира. Пятый корпус был в Котласском перпункте оазисом – местом, куда все больные мечтали попасть, но только избранные попадали. Туда посылались больные с осложнениями, больные, нуждавшиеся в великой школе медицинского искусства. Заведывал этим корпусом Доктор: человек Запада, лицом напоминавший старика Анатоля Франса. Под его ведением был небольшой барак человек на 50. Здесь не было нар. Вдоль стен стояли больничные кровати, сияя белизной. Спинки их в ногах больного были завешаны белыми простынями. Корпус выглядел как настоящая больничная палата. Это было – святилище. Медперсонал весь в белом. Больные, подавленные величием и торжественностью обстановки, вели себя приличнее и тише, чем во всех других корпусах. Они тоже, как могли, старались «соответствовать». Даже случаи кражи были редки. Здесь можно было на ночь оставить хлеб в шкафчике между кроватей, не опасаясь ни двуногих, ни четвероногих крыс.
Серебряные седины и осанка доктора производили на больных должное впечатление. Доктор был воплощением Науки и морального авторитета, не только среди больных. В процедурной 5 корпуса раз в неделю происходили собрания врачей со всех корпусов перпункта. Только главврач был вольный (т. е. уже отбывший наказание), а остальные все – со сроками. На собрании этого «медицинского общества» читались рефераты и обсуждались проблемы лагерной медицины. Наш доктор был признанным авторитетом в медицинском мире котласского перпункта.
Совещания медперсонала происходили в послеобеденные часы, во время поверки. Дежурный стрелок входил в палату в сопровождении учетчика, который называл ему число больных и персонала. Дежурный проходил по фронту кроватей, тыча пальцем. Просчитав, он деликатно отворял дверь в процедурку, где сидело человек 20 врачей. Не прерывая ученого заседания, он с порога считал людей в белых халатах. Так гармонически сочетались Наука и Госбезопасность.
Все было в 5 корпусе необыкновенно. За раздаточной находились две кельи. Нельзя их иначе назвать. Эти кельи пристроил к бараку на свой счет тот врач, который отбывал наказание в 5 корпусе до нашего доктора. Теперь в первой келье жил лекпом, во второй доктор. В этой второй, как и в каморке Максика, где висели на стене акварели Котро, я испытывал, заглядывая туда, особое чувство: присутствие индивидуальности, т. е. того, что начисто изгнано, уничтожено, умерщвлено в лагере. Здесь жил человек. Над кроватью с совершенно невероятным, неправдоподобным, потусторонним желтым стеганным одеялом висела полочка с книгами. Кроме медицинских книг, здесь была карманная Библия в оригинале и несколько книг математического содержания. В свободное время доктор занимался высшей математикой.
Первое, что со мной сделали в 5 корпусе, было – восстановление инвалидности. Это сделал главный врач, вольный. Он пришел в одно утро в палату, сел за столик посреди, и пред ним продефилировало человек 20. Им всем писали «А-Д» и таинственный значок, как потом оказалось: «инвалид».
Переход в новый корпус, где мне дали отдельную койку, сделал чудо. Я сразу почувствовал себя лучше. Тогда назначили меня ночным санитаром. На этой работе я мог подкормиться. В 9 корпусе я не мог быть ночным санитаром, там было 120 человек. Но в 5-м было только 40-50 человек. На это меня хватало. Дневным санитаром я также не мог быть: тут надо было работать одетым, выходить на двор, носить воду, дрова и ходить на кухню за едой. Я мог работать только в пределах корпуса: ноги мне служили слабо.
Ночному санитару не полагалось жить в палате. Меня выдворили в сени. Там за загородкой были устроены нары на троих. Со мной помещался завхоз Иван Иванович, маленький строгий старичок, и дневной санитар Коля (инженер по образованию). Работал я от 11 вечера до 8 утра. Днем я спал. Подымался я только к завтраку, обеду и ужину. Меня обильно кормили, как полагается ночному санитару. Наконец я перестал чувствовать звериный голод. Я поедал огромные количества супу и каши, сидя на своих нарах за перегородкой. Ночью дежурная сестра отдавала мне свою часть. Доктор отдавал мне соевую кашу, которую он не переносил. В первый год в лагере я тоже не мог есть соевой каши. Теперь я ел все. Моя прожорливость приводила в изумление раздатчицу Соню.
Раздатчица Соня, от щедрости которой я зависел, была маленькая, черненькая и напоминала еврейку. На самом же деле это была мусульманка, карачаевка. Карачаевцы – маленький народец на Северном Кавказе. В 1942 году с ними случилось несчастье: они подарили белого коня Гитлеру, когда немецкая армия заняла их район. Когда же вернулась законная власть, карачаевцев посадили в товарные вагоны и вывезли в наказание все племя в Центральную Азию. А Соню, учительницу народной школы, отправили в лагерь. Когда летом 44 года доставили ее в 5 корпус, это был жалкий заморыш, худой цыпленок при последнем издыхании. Но доктор ее вылечил и сделал раздатчицей. Теперь Соня держала в руках черпак, как скипетр. Она округлилась, ела мало и умеренно, держала себя с достоинством и с безграничным благоговением смотрела на доктора миндалевидными черными глазами.
11 часов вечера. Сиделки, уходя, будят меня. Я запираю за ними наружную дверь. Все спят уже и только дежурная сестра сидит среди палаты за столиком, но скоро и она исчезает в «процедурную». Я один с больными. Начинаю с того, что приношу дров из чулана, всяких палок, досок и поленьев, которые завхоз Иван Иванович сложил под своими нарами. Ставлю на печку бак с водой, а дрова вокруг печки, чтобы высохли. Стругаю ножичком щепки и развожу огонь. Надо топить расчетливо, чтобы хватило скудного запаса до утра.
Из холодной уборной я выношу большое ведро с деревянным сиденьем. У коек тяжело больных я ставлю глиняные миски. Это – такие же миски, как и те, из которых мы едим. Всю ночь я их выливаю в в.едро и ставлю обратно, и не допускаю к ним тех, кто в состоянии подойти к ведру. Каждый час или два – параша полна, и я выношу ее в холодную и темную уборную. На гвоздике у входа в уборную висит старый рваный бушлат, шапка и стоят разъехавшиеся туфли. Идя в уборную, надо одеться, как на двор: там мороз, и на полу грязно. По палате же ходят босиком в одном белье.
Человек 50 лежит на койках вдоль стен и посредине. Средина палаты занята койками, где как в 9-м – лежат втроем на двух сдвинутых койках. Кроме этого, имеются в палате: железная печка и столик с двумя табуретами.