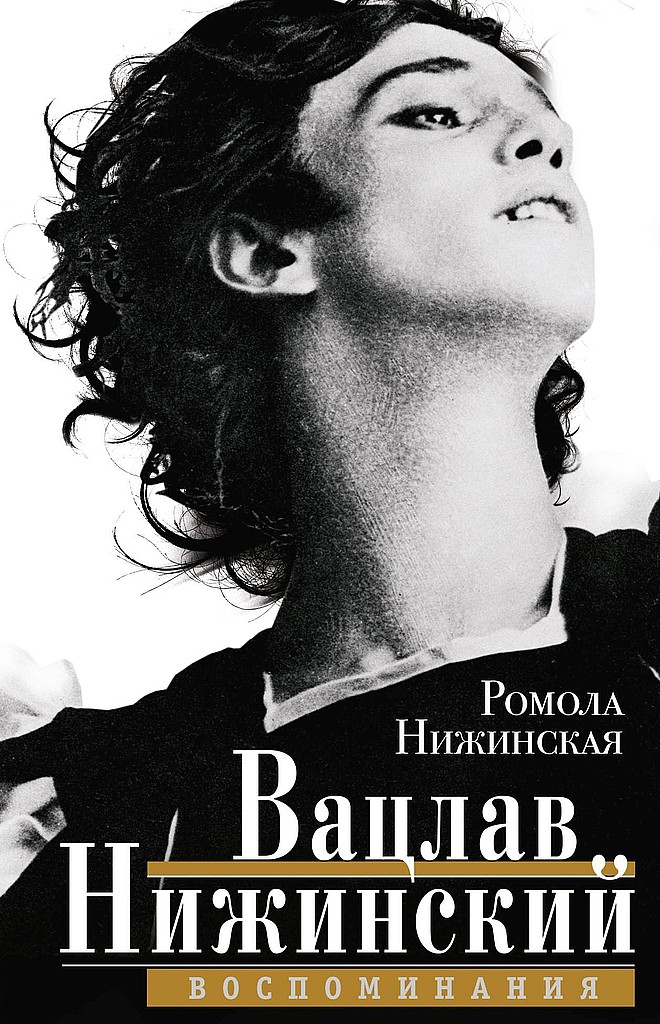В тот вечер казалось, что спектакль идет гладко. Антракт, во время которого я любовалась красочной толпой зрителей, показался мне необычно долгим. Следующим балетом в программе был «Фавн». Публика стала беспокоиться. Я пыталась догадаться, что могло случиться. Друзья Вацлава улыбались как заговорщики. Я прошла за кулисы. Все было готово, сцена освещена, Вацлав стоял в позиции и ждал, когда поднимется занавес. Но на одной из сторон сцены стояла группа жестикулирующих людей — импресарио, Григорьев, Кременев, ходившие вперед и назад по сцене в лихорадочном волнении, и Дробецкий, который пытался скрыть улыбку. Что произошло? Они сказали мне: «Нижинский, автор „Фавна“, наложил запрет на исполнение „Фавна“, поскольку по закону это произведение не принадлежит Русскому балету».
Однако Нижинский-танцовщик стоял и ждал, пока сможет начать свою роль в «Фавне» согласно условиям контракта. «Но Нижинский-автор и Нижинский-танцовщик — один и тот же человек», — сказал кто-то из балета. «Извините, есть ли у вас письменное доказательство того, что автор дал вам разрешение исполнять его, — да или нет?» И «Фавна» пришлось отменить. Вацлав признал, что с его стороны это была хитрость, но он считал, что это достаточно невинная проделка по сравнению с тем, что он должен был вытерпеть от Сергея Павловича и его прихлебателей.
Самое приятное воспоминание у нас осталось от встречи с поэтом Полем Клоделем, который в то время был французским послом в Бразилии. Он пригласил нас на ленч в посольство и представил Вацлава подававшему надежды молодому музыканту Дариусу Мило, одному из «Группы шести». Мило и Клодель в то время сочиняли балет «Человек и его желание» и хотели, чтобы Вацлав выполнил для них хореографию. Вацлаву эта мысль понравилась.
Клодель часто брал нас с собой на прогулку на автомобиле; он знал совершенно очаровательные места. Было огромной переменой и огромным облегчением находиться рядом с такими людьми и вырываться из душной атмосферы балета. Клодель, который раньше жил в странах Дальнего Востока, близко познакомил Вацлава с восточным искусством.
Жара была невыносимая. Спектакли были терпимыми для артистов только благодаря системе охлаждения, которой был оборудован театр. И мы с готовностью приняли приглашение русского посла Щербацкого посетить его в его летней резиденции в Петрополисе, в горах за Рио. Там нас приняли с настоящим русским гостеприимством.
Когда мы вернулись из Рио, нас ждала тревожная новость из Европы. Кира была здорова, но главный врач лозаннского санатория жаловался, что ему очень трудно, потому что приехала из Австро-Венгрии моя мать и при поддержке австро-венгерского консульства потребовала отдать ребенка ей. Мы немедленно отправили через посредство русского консульства телеграмму с указанием оставить Киру в Лозанне до нашего приезда.
Следующим городом нашего маршрута был Сан-Паулу. Мы отправились туда на одном из кораблей Королевской почтовой компании. Он был весь окрашен в серый цвет, серыми были даже иллюминаторы, и потому выглядел мрачно. Но это было необходимо из-за подводной войны. Нам сказали, что после заката нам запрещено находиться на палубе, а также зажигать лампы и сигареты. На корме корабля стояла пушка, и мы засмеялись, увидев ее, но смех продолжался недолго. Однажды на горизонте появился корабль, и мы все бросились посмотреть на него, потому что в эти дни войны встреча с кораблем в открытом море была редкостью. Этот корабль быстро приближался к нашему. Один из офицеров объяснил нам, что, по международным правилам войны, корабли должны подойти друг к другу на достаточно близкое расстояние, чтобы показать, что они свои. Этот внезапно развернулся, выпустил дымовую завесу и стал невидим. Офицер бросился к пушке, женщины пронзительно закричали. Я подбежала к радисту. Вацлав подошел и попытался меня успокоить. Я крикнула: «Хватит с меня всего этого; Вацлав, пожалуйста, уедем в Швейцарию и будем жить спокойно». — «Да, да, мы так и сделаем».
Кальметт, глава научно-исследовательского института в Сан-Паулу и брат того Кальметта из «Фигаро», который когда-то устроил такой шум по поводу первого представления «Фавна», показал нам свое весьма интересное учреждение, где изготавливались сыворотки против укусов змей и против насекомых.
Клодель находился в Сан-Паулу, и мы основную часть своего времени проводили с ним.
Уже в Рио я получила письмо от своего родственника Б., который тогда жил в Буэнос-Айресе; он поздравлял нас с приездом в Южную Америку. Он попросил меня прислать ему фотографию Вацлава, и я это сделала.
Следующая остановка у нас была в Монтевидео. На этот раз у нас оказалось много дел в обществе. Посольства устраивали для нас приемы, и мы очень подружились с французским посланником Жюлем Лефевром. Английский посланник Митчелл Инне пригласил нас на ленч, и там мы встретились с несколькими людьми из труппы Павловой, которая тогда танцевала в Монтевидео.
В этом турне случалось, что я сидела в уборной Вацлава с часами в руке, дожидаясь, пока принесут зарплату Вацлава — за час до начала спектакля; и бедному Дробецкому приходилось обойти все банки, чтобы найти достаточно золота для расплаты «по образцу Эльслер». В Монтевидео он не смог это сделать, и Вацлав снова танцевал даром.
В это время к нам приехал из Буэнос-Айреса мой родственник Б. Наша семья за несколько лет до войны отправила его в Аргентину как в ссылку. Он был блестящий адвокат, имел гениальный дар политика, невероятную память и невероятно обширные познания, но, к несчастью, тратил свои таланты на недостойные предметы. Его страстью было выставлять напоказ частную жизнь людей. Он так хорошо знал законы, что всегда мог уйти от наказания за свои нападения на ведущих политиков, офицеров Генерального штаба и женщин из высшего общества в газете, которую он сам же издавал. Даже его собственная семья не была избавлена от его атак. Однако он попал в очень неприятную историю, когда выставил напоказ одного высокопоставленного венгерского генерала, и тогда был отправлен в изгнание в Аргентину. По просьбе моего дяди Гари Вацлав уже помогал этому родственнику деньгами. Б. не произвел на Вацлава хорошего впечатления, однако тот дал ему несколько тысяч песо, которые Б. просил. Позже в ту же ночь Б. вернулся, сказал, что деньги были у него украдены, и попросил еще!
В этом городе Вацлав и я отвели Костровского к специалисту, который сказал мне, поскольку я одна из всех говорила по-испански, что Костровский страдал эпилепсией, а также неизлечимым опасным сумасшествием и что его необходимо репатриировать в Россию.
Четыре года прошло с тех пор, как мы были в Буэнос-Айресе. Это было почти возвращение домой — вернуться в город, где мы впервые узнали счастье. А в городе были сделаны