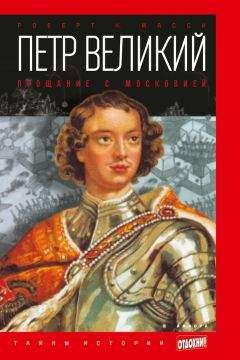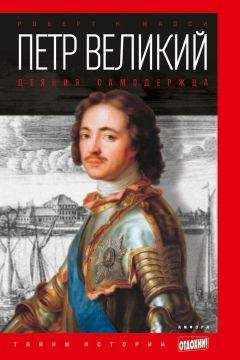А вот другой случай: как-то раз на пиру зашла речь о различиях между странами; при этом очень плохо говорили о стране, лежавшей рядом с Россией (Корб не называет, о какой именно). Приехавший оттуда посол, со своей стороны, отвечал, что заметил и в России многое, достойное порицания. Царь резко оборвал его: «Если бы ты был мой подданный, то я бы послал тебя к тем, что теперь качаются на виселицах, так как я хорошо понимаю, к кому твои слова относятся». Немного погодя царь нашел способ поставить этого человека танцевать в паре с шутом, служившим посмешищем всего двора, что вызвало кругом ухмылки и смех. Однако посол пустился в пляс, не понимая, какую с ним сыграли постыдную шутку, и танцевал, пока австрийский дипломат не напомнил ему потихоньку о необходимости беречь достоинство посла.
* * *
Настроения Петра бывали странны и непредсказуемы, и случалось, что его внезапно бросало от восторженных порывов к гневному припадку. Сейчас он был общителен, радовался, что его окружают друзья, потешался над чудным видом только что обритого приятеля, но через несколько минут мог впасть в глубокое, болезненное уныние или взорваться буйной яростью. На одном празднике рассерженный Петр обвинил Шеина в продаже армейских чинов за звонкую монету. Шеин все отрицал, и Петр пулей вылетел из комнаты – расспрашивать солдат, несших караул вокруг дома Лефорта, чтобы выяснить, «сколько наделал Шеин полковников и прочих офицеров не по заслугам, а за одни лишь деньги».
Далее этот эпизод, в изложении Корба, развивался так: «Спустя несколько времени он вернулся, и, в страшном гневе, пред глазами воеводы Шеина, ударил обнаженным мечом по столу и вскричал: „Так истреблю я твой полк!“ В справедливом негодовании царь подошел затем к князю Ромодановскому и к думному дьяку Никите Моисеевичу [Зотову]. Заметив, что, однако, они оправдывают воеводу, до того разгорячился, что, махая обнаженным мечом во все стороны, привел тут всех пирующих в ужас. Князь Ромодановский легко ранен в палец, другой в голову, а Никита Моисеевич, желая отвратить от себя удар царского меча, поранил себе руку. Воеводе готовился было далеко опаснее удар, и он, без сомнения, пал бы от царской десницы, обливаясь своею кровью, если бы только генерал Лефорт (которому одному лишь это дозволялось) не сжал его в объятиях и тем не отклонил руки от удара. Царь, возмущенный тем, что нашелся смельчак, дерзнувший предупредить последствия его справедливого гнева, напрягал все усилия вырваться из рук Лефорта, и, освободившись, крепко хватил его по спине. Наконец, один только человек, пользовавшийся наибольшей любовью царя пред всеми москвитянами[71], сумел поправить это дело… Он так успел смягчить сердце царя, что тот воздержался от убийства, а ограничился одними угрозами. За этой страшной грозой наступила прекрасная погода. Царь с веселым видом присутствовал при пляске и, в доказательство особенной любезности, приказал музыкантам играть те самые пьесы, под какие он плясал у своего… „любезнейшего господина брата“, то есть царь вспоминал о том бале, какой дан был императором в честь его гостей. Две горничные девушки пробрались было тихонько посмотреть, но государь приказал солдатам их вывести. И тут, при заздравных чашах, палили из 25-ти орудий, и пирушка приятно продолжалась до половины шестого часа утра».
На другой день произведенные Шеиным назначения были отменены, и с тех пор обязанность решать, кого из офицеров следует повысить в чине, лежала на Патрике Гордоне.
Не в первый раз Лефорт подставлял себя под царские кулаки или кидался между Петром и очередной жертвой его ярости. 19 октября царь обедал у полковника Чамберса, как вдруг, пишет Корб: «Не знаю, какой вихрь расстроил веселость до того, что Его Царское Величество, схватив генерала Лефорта, бросил его на землю и попрал ногами». И все равно Лефорт пытался противостоять монаршему гневу. На пиру для двухсот вельмож в новом Лефортовском дворце заспорили два бывших регента, дядя Петра, Лев Нарышкин, и князь Борис Голицын. Петр разозлился и «объявил напрямик, что тот из двух, который окажется более виновным, отдаст под меч свою голову и что их соперничество таким образом прекратится. Для раскрытия этого дела назначен князь Ромодановский; генерал Лефорт хотел было утишить гнев царя, но царь сильно оттолкнул его от себя кулаком».
Корб не скрывает, что больше других ему не по душе князь Федор Ромодановский, высокий, густобровый наместник Москвы и потешный князь-кесарь, который служил у Петра еще и главой розыскного ведомства. Ромодановский был угрюм и обладал тяжеловесным юмором. Он любил заставлять гостей выпить большой кубок перцовки, который им подносил, встав на задние лапы, громадный дрессированный медведь. Если гость отказывался, медведь принимался срывать с упрямца шляпу, парик, а затем и другие части гардероба. Иностранцев князь ни в грош не ставил. Однажды он похитил понадобившегося зачем-то немца-переводчика, который состоял при одном из царских врачей, и отпустил лишь после того, как этот врач пожаловался Лефорту. В другой раз арестовал доктора-иностранца, а когда тот после освобождения спросил князя Ромодановского, для чего его так долго продержали в заключении, то в ответ услышал: «Только для того, чтобы вам более досадить».
* * *
12 октября Корб записал в дневнике, что «выпало чрезвычайно много снегу и был сильный мороз». Пиршества и казни шли своим чередом, хотя Петр вскоре покинул Москву и отправился на воронежские верфи. Впрочем, к Рождеству царь возвратился. Вот рождественские впечатления Корба: «У русских дню Рождества Господня предшествует пост; сегодня, накануне этого праздника, все рынки и перекрестки переполнены всякого рода мясом. В одном месте неимоверное количество гусей, в другом столько освежеванных боровов, что, кажется, было бы их достаточно на целый год; здесь множество убитых волов, там как будто стаи птиц… слетелись в этот город со всех концов Московского царства. Было бы излишне перечислять все их роды: все, чего только пожелаешь, все найдешь».
Далее Корб описывает празднование Рождества, окрашенное грубым весельем Всепьянейшего собора: «Театральный патриарх в сопровождении мнимых своих митрополитов и прочих лиц, числом всего 200 человек, прокатился в восьмидесяти санях через весь город в Немецкую слободу, с посохом, в митре и с другими знаками присвоенного ему достоинства. В домах всех купцов и богатейших москвитян и немецких офицеров воспевались хвалы родившемуся Богу, при звуках музыки, нанятой хозяевами дома за большие деньги. После сих песнопений в честь Рождества Христова генерал Лефорт принимал все общество у себя в доме, где имело оно, для своего удовольствия, приятнейшую музыку, угощение и танцы».