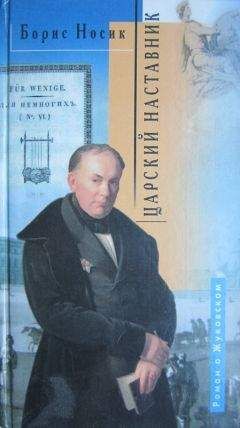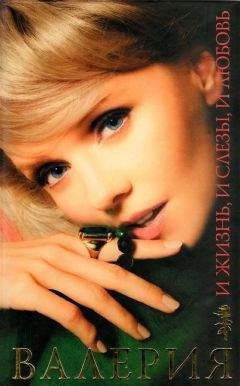Нетрудно предположить, что трагедия, грянувшая в начале 1946 года, была связана и с этой их тогдашней неотступной нищетой. Никола немногословно сообщал об этой трагедии родителям бедной Жанин: «…В ночь на 27 февраля в два часа сорок пять минут Жанин умерла после операции, которую сделал ей главный хирург клиники Будлок с целью избавить ее от сына, которого она решила не оставлять. Я не могу ничего к этому добавить. Мне удалось купить участок в четыре метра у северных ворот кладбища Монруж в вечное пользование».
Немногие друзья, провожавшие Жанин, вспоминали заснеженное кладбище, холодный ветер, красный нос и обнаженную бритую голову Андрея Ланского.
Трудно сказать, долго ли оплакивал де Сталь преданную Жанин, стольким пожертвовавшую ради его успеха. В начале марта он отправил и второе письмецо матери Жанин:
«Дорогая матушка Лулу,
Хочу попрощаться с Вами. Я не буду писать Вам больше и не буду объяснять никаких подробностей. Если не забудете, пошлите мне свидетельство о рождении Антека, которое Вам переслали из больницы вместе с другими документами. Помогите мне освободить мальчика, потому что подойдет время и он будет совсем взрослый. Я буду всегда ему помогать, пока будет возможность. Всего наилучшего».
В том же марте де Сталь поспешно перевернул страницу жизни и сообщил друзьям, что он женится и что он совершенно счастлив. Два месяца спустя в маленькой альпийской деревушке Никола женился на Франсуазе Шапутон, и уже в 1947 году у них родилась дочь Лоранс, а еще год спустя сын — Жером.
Мало-помалу поправилось материальное положение семьи. Де Сталь работал теперь в просторном ателье на парижской улице Гоге, и соседом его по дому оказался энергичный американский маршан Теодор Шемп. Благодаря усилиям Шемпа работы де Сталя вышли на американский рынок, появились даже в таких престижных собраниях, как коллекция Филипса в Вашингтоне. Через несколько лет тот же Шемп провел у себя в Нью-Йорке и в Вашингтоне персональные выставки абстракций Никола де Сталя. Но конечно, первая персональная выставка была у той же Жанны Бюше — в Париже, в 1945 году. Вообще, это десятилетие (с 1945-го по 1955-й) принесло Никола де Сталю успех, процветание, мировую славу. У небезызвестного художника-абстракциониста Никола де Сталя, у этого веселого обаятельного гиганта, был теперь большой круг друзей в Париже — художники, поэты, маршаны, коллекционеры, критики и просто поклонники его таланта. Никола особо почитал поэтов — он ведь и сам мечтал стать поэтом. Он оформлял книги двух своих друзей-поэтов — Пьера Лекюира и Рене Шара. В начале 50-х годов Лекюир написал поэтический портрет друга, который, по мнению иных искусствоведов, относится и к живописи, и к облику Никола де Сталя:
«Этот его рост, его характер словно чистый самородок природы, ее пласт, этот серебряный светильник, его взлет в высоту, его размах, все сочетание его черт, эта струна, что спускается в басовые низы, этот внутренний гром, что не слышен снаружи, все эти части, приходящие в смятенье прежде чем составить корпус, эти истины вперемешку, все, что можно нащупать в густоте слоя, все божбы и клятвы, все картины, охраняемые беззащитным ликом, все эти прямые обращения в рассказе о мире, взятые на такой высоте, что становится ясно, что могут быть достигнуты лишь окольным путем, это неловко, это портит, это вредит размаху, и вечное осиротение атмосферы и роста, вот двадцать эквивалентных возможностей и невозможностей этой живописи, приводящей в смущение и испуг».
Такими представляются картины де Сталя и сам Никола де Сталь одному из любимых его друзей-поэтов. Другому, не менее любимому, поэту все представляется иначе, что же до искусствоведов, то они расскажут еще об одном, третьем или четвертом де Стале.
Поразительно, что человек, которому больше, чем всем великим искусствоведам, художникам и поэтам, доверялся Никола де Сталь, был не художник и не историк искусства. Он был промышленник, бизнесмен, просвещенный любитель, умеренный коллекционер и щедрый меценат. Звали его Жан Борэ. Текстильная фабрика семьи Борэ находилась на севере, в Эркенгеме, поставляла в Париж льняные простыни и ткань для обивки мебели. Жан Борэ был парижским представителем компании, жил с семьей в квартире на улице д'Артуа или в скромном деревенском доме по пути на Мант-ла-Жоли. Но главной страстью Жана Борэ была современная живопись. У него был тот самый нюх на таланты, которым прославились великие маршаны. Когда его компания открыла на Елисейских полях в Париже галерею тканей, Жан обратился в первую очередь к художникам-абстракционистам. Кандинский еще в пору войны согласился делать для него картоны. Потом Борэ привлек Ланского (который давно уже не ставил на своих афишах ни графского титула, ни имени, а только фамилию), Сергея Полякова и Сергея Шаршуна.
Жан Борэ устраивал музыкальные вечера для своих любимых художников. Де Сталь избегал этих вечеров поначалу. Позднее, когда Никола услышал, как Жан Борэ подробно объясняет, чего он, Никола, хотел добиться на том или ином полотне, чего он достиг, чего не сумел, что еще можно поправить, что будет дальше, он уверовал в абсолютное чутье Борэ и отныне не мог обойтись без Жана: закончив полотно, бежал к нему на улицу д'Артуа или приезжал первым поездом в деревню и терпеливо ждал, пока откроются ставни домика. Мысли Борэ были ему созвучны. Все это означало, вероятно, и то, насколько де Сталь был неуверен (несмотря на браваду) в том, что он делает, насколько мучительно искал он подтверждения, одобрения, ободрения, объяснений. В свой смертный час, перед гибелью Никола накарябал записку Жану Борэ, прося, чтоб и после него, если случится выставка, Жан объяснил бы людям, что́ он всем этим хотел сказать, Никола. Не кто-нибудь объяснил, а Жан, потому что Жан знал лучше… Лучше, чем сам Никола? Может быть, и лучше.
В том же 1945-м де Сталь писал коллекционеру Жану Адриану: «…мне трудно постигнуть истину — она и сложнее и проще, чем мы думаем, и Бог ведает, может ли она открыться бедняге-человеку, я только хотел бы снова сказать, что когда все элементы сходятся воедино, и выбор сделан, и есть покорное ожидание, и есть желание привести в порядок весь хаос, есть все требования и все возможности, есть и бедность и идеал, тогда в лучших из картин все выстраивается так, что создается впечатление, что ничего к этому не можешь добавить… Что касается инстинкта, то у нас, должно быть, разное о нем понятие, для меня инстинкт — это бессознательное стремление к совершенству, а полотна мои живы за счет сознаваемого несовершенства».
Жан Борэ проникся глубокой симпатией к своему художнику, был ему настоящим другом, безотказным помощником и критиком, если надо — банкиром и спасителем.