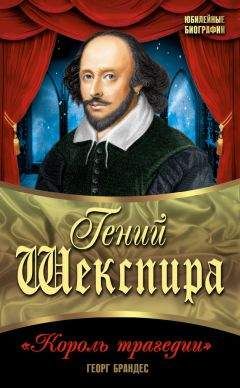На основе родственного с этим инстинктивного чувства Шекспир и создал своего Брута. С примесью юмора и гениальности он был бы Гамлетом и становится Гамлетом. С примесью отчаянной горечи и презрения к людям он был бы Тимоном и становится Тимоном. Здесь, на высоте своей, он благородный, великий человек характера и человек доктрины, слишком гордый, чтобы хотеть быть осмотрительным, и слишком плохой наблюдатель, чтобы быть практичным; этот человек поставлен в такое положение, что не только жизнь и смерть для другого и для него самого, но благополучие государства, более того, судя по виду, благополучие цивилизованного мира зависит от решения, которое он примет.
Рядом с ним Шекспир поставил образ, представляющий его женский pendant, вполне подходящий к нему и слившийся с ним воедино, его двоюродную сестру и жену, его родственницу и возлюбленную, дочь Катона в супружестве с учеником Катона. Здесь и, несомненно, только здесь – поэт дал нам рисовавшуюся в его мечтах картину идеального брака.
В сцене между Брутом и Порцией поэт дал место мотиву, которым он уж пользовался однажды: мотиву озабоченной жены, умоляющей мужа посвятить ее в свои великие планы. В первый раз он встречается в первой части «Генриха IV», где леди Перси просит своего Генриха сообщить ей, что он замышляет. Екатерина делает здесь описание настроения и поведения Горячки, совершенно соответствующее описанию произошедшей в Бруте перемены, которое делает Порция. Притом же и у того, и у другого однородные намерения. Но леди Перси ничего не удается узнать. Ее Генрих, бесспорно, любит ее, любит ее временами, между двумя стычками с врагом, смелой и веселой любовью, но он любит ее без всякой чувствительности, и о каком-нибудь духовном общении между ними нет и речи.
Здесь, когда Порция просит своего супруга поведать ей причины своей печали, Брут, правда, сначала отвечает ей уклончиво ссылкой на свое здоровье, но когда она словами, которые Плутарх вкладывает ей в уста и античную откровенность которых Шекспир только смягчил немножко, настойчиво подчеркивает, что чувствует себя униженной этим недостатком доверия, тогда Брут дает ей искренний и прекрасный ответ. Когда же она затем (опять-таки по Плутарху) рассказывает ему о том, как однажды, чтобы испытать свою твердость, она вонзила себе нож в бедро и не испустила ни стона от боли, тогда он восклицает, повторяя слова, вложенные ему в уста у Плутарха: «О боги, соделайте меня достойным такой благородной жены!» – и обещает рассказать ей все.
Однако ни Шекспир, ни Плутарх не находят благоразумным это чистосердечное признание. Ибо не Порция виновата в том, что не выдала всего. Когда наступит решительный момент, она не может ни молчать, ни владеть собой. Она обнаруживает свой страх и свою тревогу перед отроком Люцием и сама восклицает:
Дух у меня мужской, но силы женские.
Как трудно женщине хранить тайну! —
размышление, очевидно, принадлежащее не Порции, а составляющее собственную житейскую философию Шекспира, которую он не хотел оставить про себя. У Плутарха она даже падает замертво, так что ложная весть о ее кончине настигает Брута за минуту перед тем, как должно совершиться убийство Цезаря, и ему нужно все его самообладание, чтобы не изнемочь.
Из характера, которым Шекспир наделил, таким образом, Брута, вытекают две большие сцены, служащие фундаментом пьесы. Первая – это чудесно построенная, делающаяся поворотным пунктом трагедии сцена, где Антоний, произнося с согласия Брута речь над трупом Цезаря, подстрекает римлян против убийц великого полководца.
С самым редким искусством Шекспир разработал уже речь Брута. Плутарх рассказывает, что Брут, когда писал по-гречески, старался усвоить себе сентенциозный и лаконический стиль, и он приводит ряд примеров этого стиля. Так, Брут писал самийцам: «Ваши соображения долги, действия медлительны; каков, думаете вы, будет конец их?», или в другом письме: «Ксантийцы, пренебрегшие моею кротостью, сделали свое отечество могилой отчаявшихся людей. Патарейцы, сдавшись, сохранили свою свободу и права. Выбирайте же теперь между здравым смыслом патарейцев и судьбой ксантийцев!»
Посмотрите, что сумел сделать из этих намеков Шекспир:
Римляне, сограждане, друзья! Слушайте мое оправдание и не нарушайте молчания, чтобы могли слышать все; верьте мне ради чести моей и не откажите в должном уважении моей чести…
Если между вами есть хоть один искренний друг Цезаря, – я скажу ему, что Брут любил Цезаря не меньше его. Если затем этот друг спросит: отчего же восстал Брут против Цезаря? – я отвечу ему: не оттого, что я меньше любил Цезаря, а оттого, что любил Рим больше… -
и так далее в лаконическом стиле антитез. Шекспир сделал сознательную попытку заставить Брута говорить тем языком, который он выработал себе, и со своим гениальным даром угадывания воспроизвел греческую риторику Брута:
Цезарь любил меня – и я оплакиваю его; он был счастлив – и я уважал его; но он был властолюбив – и я убил его. Тут все – и слезы за любовь, и радость счастью, и уважение за доблести, и смерть за властолюбие.
С необычайным и вместе с тем благородным искусством достигает он кульминационного пункта в вопросе: «Есть между вами человек столь гнусный, что не любит своего отечества? Есть – пусть говорит: только он и оскорблен мной», и когда в ответ раздается: «Никто, Брут, нет между нами такого», следует спокойная реплика: «А когда так, то никто и не оскорблен мной».
Еще более достойная удивления речь Антония замечательна, во-первых и прежде всего, сознательным различием в стиле. Здесь нет антитез, нет литературного красноречия, но есть красноречие устное, самого сильного демагогического характера; речь начинается с того самого пункта, где Брут оставил слушателей. Оратор в виде вступления категорически заявляет, что здесь будет говориться над гробом Цезаря, а не во славу его и при этом подчеркивает до утомления, что Брут и другие заговорщики – все, все благородные люди. Затем это красноречие вздымается, гибкое и могучее в своем хорошо рассчитанном crescendo, в самой глубине своей вдохновляемое чувствами, которые дышат пламенным энтузиазмом к Цезарю и жгучим негодованием на совершенное над ним убийство. Под впечатлением того, что Брут завоевал в свою пользу настроение толпы, насмешка и негодование сначала надевают маску, потом маска слегка, затем немного больше, затем еще больше приподнимается и, наконец, страстным движением руки срывается и отбрасывается прочь.
Здесь Шекспир снова сумел мастерски воспользоваться указаниями, хотя и скудными, которые дал ему Плутарх:
«По обряду и обычаю Антоний произнес надгробное слово над Цезарем, и когда увидал, что народ необычайно взволнован и тронут его речью, он внезапно к похвальной речи Цезарю присоединил то, что считал подходящим для того, чтобы пробудить сострадание и воспламенить душу слушателей».