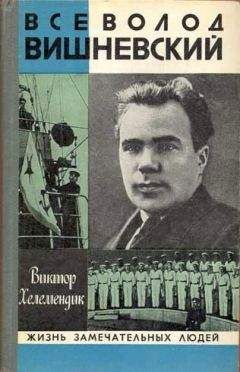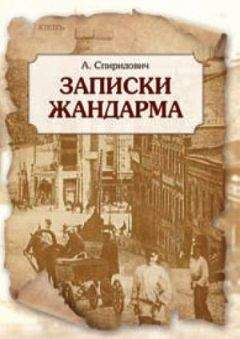19 ноября 1942 года в строчках дневника — некоторое прояснение темы: «…Образ молодого мудрого командира, русак, смельчак… Образ старого матроса (боцмана?)… Встреча поколений. Взаимооценка, критика, серьез и юмор…» Еще запись, через месяц: «Ищу философско-исторических, широких обобщений для новой пьесы. Диалоги моряков о будущем устройстве Европы, мира… Выводить из быта, узких рамок окопов!»
Конечно, работать приходилось урывками, и пьеса, начатая в январе 1943 года, была завершена только в 1944 году. Сюжет ее прост: действие происходит в течение трех критических дней сентября 1941 года на подступах к окраинам Ленинграда. Вновь сформированная бригада — из сошедших с кораблей моряков, уцелевших в предыдущих боях, раненых, но оставшихся в строю, из пришедших на подмогу рабочих-кировцев — в момент, когда идет кольцевой штурм города, вступает в ожесточенную схватку с врагом и стоит насмерть. Вместе с командиром, кадровым военным, капитаном третьего ранга Симбирцевым в атаку идут его сыновья — юнги Олег и Юрий — шестнадцати и семнадцати лет. (Видимо, происхождение этой линии не только чисто литературное, но и автобиографическое: под Ленинградом сражался сын писателя Игорь). «Я и члены моей семьи, — писал Вишневский 7 декабря 1941 года, — из Ленинграда никуда не уйдем — только на Запад — в наши базы и по обстановке далее».
Бойцы бригады, в основном люди молодые, не нюхавшие пороху, и, естественно, их объединяют ветеран, участник нескольких войн, старшина 1-й статьи Лошкарев, комиссар Никонов и командир. Они не теряют присутствия духа и в самые сложные моменты умеют быстро сориентироваться в обстановке, дать точный приказ, подбодрить бойцов. Так, Лошкарев на вопрос новобранца, почему наши части отступают, спокойно отвечает:
— А ты, малец, еще погодь. Гитлер наступает только в прениях, а заключительное слово будет у России-то…
Трогательно и светло изображено возникающее чувство любви санитарки Тани к моряку Михайлову, у которого на оккупированной фашистами территории остались мать и сестра. «Ты слушай, — говорит Таня парню. — Я важное хочу сказать… Пусть будет смешно, ну и смейтесь, мне все равно… Вот у тебя там сестра осталась!.. Ты стал одинокий… Поэтому я решила… Ну пусть я буду тебе сестрой…» И потом Таня, выражая, наверное, не столько свою, сколько авторскую, мысль говорит: «…Знаешь, я вдруг поняла, почему матросы раньше называли друг друга „братишка“, „браток“. Это очень ласково, очень человечески нежно…»
Люди, выстоявшие в суровой битве, становятся братьями. И еще одно утверждал своей пьесой драматург: в годину великого испытания в людях пробуждаются лучшие черты, крепнет, растет национальное, историческое самосознание. В этой связи особый интерес представлял ярко выписанный персонаж — командир Белогорский. Думается, что к созданию этого образа автора подтолкнул факт, имевший место в жизни, в Кронштадте: принимая орден Красного Знамени, один из награжденных сообщил, что в течение двадцати лет жил не под своей фамилией, что происходит из княжеского рода, в свое время выступал с оружием в руках против Советской власти, а теперь, кровью искупив вину, будет служить Родине верой и правдой, но под своей настоящей фамилией…
«Жаль, что Вы, вероятно, не читали первого варианта „У стен Ленинграда“, — писал Вишневский 21 октября 1945 года В. О. Перцову. — Я развернул историческую эволюцию образа бывшего русского офицера, дал тип дм меня новый (князь, бывший белый, идущий на защитит Ленинграда)».
Пьесе местами присущи торопливость, скороговорку, Правда, как первый рассказ средствами драматургии о героической обороне Ленинграда, пьеса — а поставлена она сначала Театром Краснознаменного Балтийского флота, а затем Камерным — была встречена тепло и сердечно. Несмотря на военную обстановку, как обычно состоялось авторское чтение для различных аудиторий. После слушания пьесы Н. С. Тихонов писал: «Вишневский очень волновался. Он, конечно, был в каждом своем персонаже. Он болел, мучился, страдал, как они. Он негодовал, он рвался в бой, он плакал, и настоящие слезы катились по его щекам. Он, как и мы, не замечал ни разрывов снарядов, ни звона стекол, ни треска отбитых кирпичей. Он читал, как актер, один играющий все роли, и все роли, как одну, как замечательный агитатор, взывающий к современникам, как сам участник события, как моряк, сжимающий оружие и готовый в контратаку…»
Хотя сентябрь 1941 года не успел далеко уйти в прошлое, он рядом, однако кое-кому показалось, что Вишневский в своей пьесе слишком уж обнажает жестокие стороны войны, делает больший, чем надо, акцент на громадных испытаниях и потерях, показывает не только отвагу, но и смятение духа… Уже в 44-м у некоторых имеющих отношение к литературе администраторов появилось желание все пригладить, прилизать, именно оно-то и определило реакцию на пьесу и характер ее доработки при постановке.
Вот некоторые замечания армейского комиссара И. В. Рогова, ознакомившегося с рукописью: «Бригада морской пехоты скорее похожа не на воинскую часть, а на какую-то неорганизованную толпу… Стоит ли делать Белогорского чуть ли не центральной фигурой пьесы?..» И вообще: много предательств, отрицательных фигур, чересчур трагичен 41-й год…
Автор молча слушал, записывал. Потом закрыл блокнот, как-то медленно, устало поднялся и, глядя армейскому комиссару прямо в глаза, сказал:
— Мне больно видеть эти ведомственные опасения, подсчеты. Многое забывается, забыта и осень 1941-го. В пьесе все проверено, взято из жизни…
Так говорил он всегда: прямо и нелицеприятно. Позже сам про это забывал — что здесь особенного, — вел спор по существу, ни хитрить, ни подбирать деликатные слова он не умел да и не хотел.
Правда, другие таких разговоров не забывали и, что хуже, не прощали…
И все же Вишневский пошел на компромисс: уж очень хотелось ему, чтобы пьесу о Ленинграде его защитники увидели еще во время войны. Драматург отказался от ряда персонажей (в том числе от Белогорского), усилил «шпионскую» линию, и, естественно, это не углубило идейно-художественное содержание пьесы.
Соглашался на переделки с болью в сердце, пытался уяснить существо критики хотя бы для самого себя. Пробовал, но не смог: «Видимо, сейчас по обстановке нужен не философский спор, не трагический рисунок, а просто ударный, агитационный посыл. Я это понимаю, но мне казалось, что и на этот раз я писал „оптимистическую“ трагедию.
Думаю весь вечер, ночь. Надо сохранить эту работу — первую большую пьесу об обороне Ленинграда, — пусть переделки, доработки… А этот вариант останется для будущего» (Из дневника, 24 ноября 1943 года).