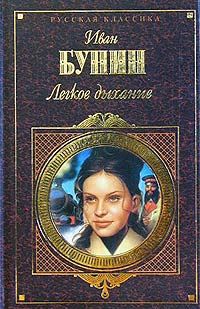Как разсказать все последующее? Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторыя окна котораго красновато освещены. Еще левее, за домом, сад я над ним тихо играющія разноцветными лучами сказочно прелестныя зимнія звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значенія эти освещенныя окна; ведь за ними – Он, Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце – и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и убежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню.
Тотчас же отворяют – и я вижу лакея в плохеньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, со множеством шуб на вешалках, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.
– Как прикажете доложить?
– Бунин.
– Как-с?
– Бунин.
– Слушаю-с.
И лакей убегает наверх и, к моему удивленно, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:
– Пожалуйте обождать наверх, в залу… А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине его налево тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка и из-за нея быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, – ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, – кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногій, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкій, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной. Даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькіе глаза вовсе не страшные и не острые, а только по звериному зоркіе. Легкіе и жидкіе остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по крестьянски разделены на прямой пробор, очень большія уши сидят необычайно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть…
– Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни… Садитесь пожалуйста и разскажите мне о себе…
Он и заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей полной потерянности, и торопясь вывести меня из нея, отвлечь от нея меня. Что он еще говорил? Все разспрашивал:
– Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда… Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте себе мундира из нея, во всякой жизни можно быть хорошим человеком…
Мы сидели возле маленькаго столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только очень мягкую серую матерію его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческій слегка альтовый голос с характерным звуком несколько выдающейся челюсти… Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: – и? гостиной плавно шла крупная и нарядная, сіяющая черным шелковым платьем, чудесно убранными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:
– Lон, – сказала она, ты забыл, что тебя ждут…
И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы чуть виноватой улыбкой, с поднятыми бровями, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых вое была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:
– Ну, до свиданія, до свиданія, дай вам Бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве… Не ждите многаго от жизни, лучшаго времени, чем теперь, у вас не будет… Счастья в жизни нет, есть только зарницы его, – цените их, живите ими…
И я ушел, убежал, совершенно вне себя, и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с такой разительной яркостью и в такой дикой путанице, что и теперь вспомнить жутко, захватывал себя, просыпаясь, на том, что я что-то бормочу, брежу…
Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», незаконно, без должнаго разрешенія продавать их на базарах, на ярмарках, за что и был судим и приговорен сидеть в тюрьме, – от которой меня спас, к моему тогдашнему большому горю, царскій манифест – затем завел книжную лавку, полтавское отделеніе «Посредника», и так запутал счета, что порою примеривался повеситься. В конце концов я эту лавку просто бросил, уехал в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей этого «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещеніи, наставляя друг друга на счет «доброй» жизни. Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил страшно легко и быстро) по вечерам и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный братіей, серьезно делавшей ему порою такіе вопросы: «Лев Николаевич, но что же я должен был бы сделать, если бы па меня напал, например, тигр?» Он в таких случаях только смущенно улыбался и говорил:
– Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра…
Вспоминаю еще, как однажды сказал ему, желая сказать пріятное и даже слегка подольститься:
– Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости.
Он слегка нахмурился:
– Какія общества?
– Общества трезвости…
– То есть, это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, не зачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действія видимостью его…
А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.
– Войдите, – ответил старческій альтовый голос.
И я вошел и увидел низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумракі от железнаго щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книжкой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткіе, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, верно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведете, только что напечатанное тогда, – «Хозяин и работник». Я, от восхищенія перед этой вещью, имел безтактность издать восторженное восклицаніе. А он покраснел, замахал руками:
– Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!
Лицо у него было в этот вечер, худое, темное, строгое, точно из бронзы литое. Он очень страдал в те дни – не задолго перед тем умер его семилетній Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас же заговорил о нем:
– Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит – умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!
Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул весенній ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному, белому Девичью Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил – отрывисто, строго, резко:
– Смерти нету, смерти нету!
В последній раз я видел его лет через десять после того. В страшно морозный ветер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел по Арбату – и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной, подпрыгивающей походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он тоже пріостановился и сразу узнал меня:
– Ах, это вы! Здравствуйте, надевайте, пожалуйста, надевайте шапку… Ну, как, что, где вы и что с вами?
Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечій шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и нежно несколько раз пожал ею мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями.