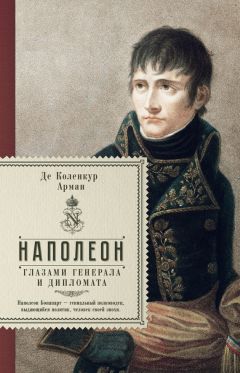Офицер отнесся к этому поручению весьма ответственно. Полушуточная конституция полушуточного общества была написана с величайшей серьезностью[42]. Конечно, не следует преувеличивать значение этого произведения юношеского пера и видеть в нем прообраз или предвосхищение конституции VIII года, как это утверждал обычно сдержанный Фредерик Массон. «Проект конституции общества Калотт» примечателен иным. Устами правоверного «калоттинца» лейтенанта Буонапарте вновь говорил автор «общественного договора». И по своему идейному содержанию, и даже по форме и терминологии «Проект конституции» близок к общественно-политическим взглядам Руссо. Основным политическим принципом и главной гражданской добродетелью общества провозглашалось равенство[43]. Младший лейтенант Буонапарте в предреволюционные годы выступает вслед за Жан-Жаком Руссо убежденным сторонником идеи равенства.
На протяжении недолгой жизни Бонапарта, поворачивавшейся самыми неожиданными гранями судьбы, ему случалось менять, как, впрочем, и о многом ином, мнение о Руссо. Менялась жизнь, менялся Бонапарт, менялись его мнения. Но остается несомненным, что в пору, о которой сейчас идет речь, Жан-Жак Руссо был мыслителем, имевшим на него наибольшее влияние.
Известно свидетельство его старшего брата Жозефа, относящееся к 1786 году: «Он был страстным поклонником Жан-Жака и, что называется, обитателем идеального мира»[44].
Это свидетельство должно быть принято с доверием. Оно полностью подтверждается литературным наследством Бонапарта предреволюционных лет.
Иные приверженцы «наполеоновских легенд», и среди них легенды о том, что Бонапарт чуть ли не с детских лет был прирожденным монархом — «монархом в потенции», и иные скептики, полагавшие, что Бонапарт всегда был только дельцом, стремившимся к власти, те и другие склонны всячески преуменьшать либо вовсе отрицать влияние Руссо на Бонапарта, как и всякую причастность будущего императора, даже в дни его молодости, к миру революционных идей.
Нет, данное свидетельство Жозефа Бонапарта было вполне правдивым. Младший Буонапарте шел вместе с передовыми людьми своего века под знаменем великих освободительных идей «партии философов» и был совершенно искренен в непримиримой вражде к старому, несправедливому, ущербному миру и в желании изменить этот мир к лучшему.
14 июля 1789 года — падение Бастилии — стало великим днем не только в истории французского народа, но и в летописях освободительной борьбы человечества. Этот день возвестил начало новой исторической эпохи.
13—14 июля, как свидетельствовали участники тех исторических дней, все были настолько захвачены неудержимым потоком событий, повелительными требованиями стихийно развернувшегося народного восстания, что не оставалось времени обдумывать то, что творилось. 14 июля было прорвавшимся сразу и с яростной силой взрывом народного гнева, накапливавшегося в течение десятилетий[45]. Хлынувший на поверхность поток был столь стремителен, обладал такой неодолимой силой, что ничто ему не могло противостоять. Над Бастилией был поднят белый флаг капитуляции, и тысячи парижан по опущенным подъемным мостам, преодолевая рвы, по приставленным к стенам лестницам ворвались в крепость.
Лишь в следующие дни, глядя на поверженную твердыню абсолютизма, парижане с удивлением спрашивали себя: неужели это дело наших рук?
Наблюдатель, сторонний революционному миру, некий английский врач доктор Эдвард Ригби, волей случая оказавшийся очевидцем событий, в письме от 18 июля 1789 года писал так: «Я был свидетелем самой замечательной революции, которая, быть может, вообще когда-либо совершалась в человеческом обществе. Великий и мудрый народ вел борьбу за права и свободу человечества; мужество его, предусмотрительность и выдержка увенчались успехом, и событие, которое будет способствовать счастью и процветанию миллионов потомков, совершилось при весьма незначительном кровопролитии…»[46].
Все оказалось легче, чем можно было ожидать. Мгновенность достигнутой победы над абсолютизмом, разительность величайших перемен, совершившихся за несколько часов, потрясали. Есть ли силы, могущие противостоять народу, охваченному единым порывом? Отныне ничто уже не казалось невозможным. Португальский посол, наблюдавший развитие событий в Париже, писал, что, «если бы он сам не был очевидцем революции, он не рискнул бы о ней рассказывать, так как опасался бы, что правду примут за вымысел»[47].
Опьянение победой, свободой, завоеванной самоотверженной решимостью народа, волнующие чувства товарищества, братства, сплотившие воедино третье сословие, неожиданно открытое, полное сокровенного значения новое слово «нация» — все это кружило головы, наполняло гордостью сердца. То была заря, первые часы начинавшейся новой эпохи, время беспредельных надежд, время иллюзий.
***
Двадцатилетнему офицеру артиллерийского полка в Оксонне Наполеону ди Буонапарте не приходилось раздумывать над тем, принимать или не принимать революцию. Вопрос был давно решен: еще с юных лет, даже с мальчишеской поры он мечтал о времени великих преобразований. Спарта, Афины, Рим, о которых он грезил еще на школьной скамье Бриеннского военного училища, разве это не были облеченные в одежды прошлого мечты о будущем, о царстве свободы, справедливости, добродетели?
Пылкий последователь Жан-Жака Руссо и Рейналя, почитатель Мабли, республиканец в восемнадцать лет, противник деспотизма, лейтенант Буонапарте не мог не рукоплескать революции. С первых же дней он был вместе с народом, совершившим чудо 14 июля, он был за революцию и против ее врагов.
Об этом следует сказать сразу же и со всей определенностью, так как в исторической литературе в свое время предпринимались попытки дать иное толкование этого вопроса. Некоторые авторы сочли необходимым высказать сомнение в приверженности будущего императора французов в дни своей молодости к революции. Так, Жак Бенвиль, историк крайне правых политических воззрений, в книге о Наполеоне отмечал, что Бонапарт отнюдь не был взволнован известиями о взятии Бастилии и что к революции он относился как сторонний наблюдатель[48].
В отличие от Бенвиля Луи Мадлен, оставаясь на почве фактов, признавал, что Бонапарт присоединился к революции и был ее приверженцем. Но сочувственное отношение Бонапарта к революции он объяснял главным образом тем, что революция устранила преграды, созданные законом 1780 года для офицеров, не принадлежащих к высшему дворянству. Бонапарт, сумевший доказать в своей генеалогии лишь четыре поколения дворянской крови, должен был, естественно, приветствовать отмену всяких ограничений, препятствующих его военной карьере[49].