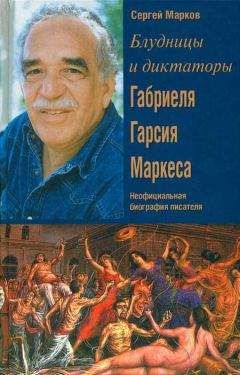Но «электрифицированный курятник», конечно, бередил мальчишеское воображение — туда внука водил дед-полковник. «…Жители Макондо только ещё начинали задаваться вопросом, что же всё-таки происходит, чёрт побери, как город уже превратился в лагерь из деревянных, крытых цинком бараков, населенных чужеземцами, которые прибывали поездом почти со всех концов света — не только в вагонах и на платформах, но даже на крышах вагонов, — читаем в романе „Сто лет одиночества“. — Немного погодя гринго привезли своих женщин, томных, в муслиновых платьях и больших шляпах из газа, и выстроили по другую сторону железнодорожной линии еще один город; в нём были обсаженные пальмами улицы, дома с проволочными сетками на окнах, белые столики на верандах, подвешенные к потолку вентиляторы с огромными лопастями и обширные зелёные лужайки, где разгуливали павлины и перепёлки. Весь этот квартал обнесли высокой металлической решёткой, как гигантский электрифицированный курятник, по утрам в прохладные летние месяцы её верхний край был всегда чёрным от усевшихся на нём ласточек. Никто ещё не знал толком: то ли чужеземцы ищут что-то в Макондо, то ли они просто филантропы, а вновь прибывшие уже всё перевернули вверх дном — беспорядок, который они внесли, значительно превосходил тот, что прежде учиняли цыгане, и был далеко не таким кратковременным и понятным…»
Потрясающее впечатление на шестилетнего Габито произвело появление на пыльной разбитой улице Аракатаки ослепительного кабриолета, за рулём которого сидела фантастической красоты дама из «электрифицированного курятника». Рядом с ней гордо восседал огромный красавец-дог. Дед с внуком — пожилой и маленький мужчины — замерли с открытыми от изумления и восхищения ртами и стояли так, пока кабриолет, неспешно, величественно и волнующе покачиваясь, не скрылся за поворотом.
Много лет спустя писатель признается в одном из интервью, что лица той незнакомки в автомобиле, конечно, не запомнил, но во всех героинях его произведений есть её частица, её отсвет. Быть может, в тот самый момент в мальчике начало просыпаться мужское естество, которое со временем породит бурный поток, неиссякаемый, захлёстывающий, накрывающий читателя с головой водопад ни с чем не сравнимой маркесовской эротики. В романе «Сто лет одиночества» то мальчишеское потрясение воплотится в образ американки Патриции, будто унесённой, растаявшей, исчезнувшей, как и всё, таинственно и бесследно. Почти. После потопа, после гибельного ветра «сохранилось лишь одно-единственное свидетельство того, что здесь некогда жили люди, — перчатка, забытая Патрицией Браун в автомобиле, увитом анютиными глазками».
Запомнился на всю жизнь и богатый итальянский коммивояжёр Антонио Даконте Фама, ставший прообразом Пьетро Креспи. Как и многие предприниматели Америки и Европы, итальянец приехал в Аракатаку заработать на «банановой лихорадке». Дико энергичный, темпераментный, весёлый и находчивый неаполитанец буквально заполонил собою городок. Он имел отменный тенор, играл на пианоле и устраивал концерты, давал уроки изысканных итальянских танцев, показывал немое кино, привезённое из Италии, открыл пункт проката диковинных в ту пору велосипедов, организовал продажи по всему северо-востоку Колумбии граммофонов, невиданных ещё радиоприёмников, швейных машинок и проч. и проч.
О любовных похождениях итальянца Антонио ходили легенды — говорили, что он «пользовал всё, что шевелится», притом ни одна из женщин, будь она свободной или замужней, почему-то не могла ему отказать, рано или поздно он добивался своего. (В деревне на Волге, где вырос автор этих строк, когда-то снимали советско-итальянский фильм «Подсолнухи» с Софи Лорен, и на деревенских танцах появился такой же Антонио, то ли осветитель, то ли помощник режиссёра, кудрявый, темноглазый, не знающий ни слова по-нашему, и точь-в-точь как в Аракатаке, в деревне Новомелково ни одна не смогла устоять перед жгучим итальянцем — как много всё-таки общего у нас с колумбийцами!) Неоднократно в Аракатаке жизнь «макаронника» подвергалась реальной опасности, дважды он был ранен ревнивыми мужьями, его даже пытались кастрировать мачете, но он отстоял своё мужское достоинство, ударом граммофона по голове уложив ревнивца на месте. Жил он сразу с двумя молодыми женщинами, родными сёстрами, высокой голубоглазой блондинкой и пышногрудой брюнеткой. И ему беспрерывно приходилось ремонтировать их трёхспальную семейную кровать, поломанную в бурных ночных баталиях. Сёстры между собой жили дружно и рожали Даконте Фаме детей, нередко в один день, но одна — исключительно девочек, другая — только мальчиков. (В Аракатаке по сей день много Даконте.)
Долго ещё после того, как неаполитанец уехал из Аракатаки, ходили слухи, что в доме, в котором он жил с красавицами-сёстрами, водятся призраки, домовые и другая нечисть. В детстве Габито с друзьями Луисом и Франко пробирались сквозь заросли запущенного сада и подглядывали за нечистью, по ночам заполнявшей огромный тёмный дом, бесившейся, глумившейся над здравым смыслом и на постели вытворявшей такое, что вгоняло мальчишек в краску, будоражило воображение и рождало безумные мечты.
Запомнился будущему писателю и дон Эмилио, то ли француз, то ли бельгиец, приехавший после Первой мировой войны, израненный, на костылях, краснодеревщик, ювелир, обучивший полковника ювелирному искусству и по вечерам обыгрывавший его в шахматы и карты. Как-то раз дон Эмилио отправился в кинотеатр «Олимпия» посмотреть кинокартину «На западном фронте без перемен», а придя домой, отравился. «Деду сообщили о самоубийстве, когда мы вышли из церкви после воскресной мессы, — вспоминал Гарсия Маркес. — Он потащил меня к дому бельгийца, где уже ждали мэр и полиция. Я сразу ощутил стоявший в неприбранной комнате резкий запах горького миндаля — от цианида, который он вдыхал, чтобы покончить с собой… Дед откинул одеяло. Труп был голый, застывший, скрюченный, кожа — бесцветная, с каким-то желтоватым налётом, водянистые глаза глядели на меня, как живые. Бабушка, увидев моё лицо, когда я вернулся домой, предрекла: „Несчастное дитя уже никогда не сможет спать мирным сном“.»
Дед души не чаял в своём внуке, ежемесячно отмечал, созывая гостей, его день рождения, брал с собой на прогулки и в поездки. Внук уважал деда — прежде всего за то, что дед, в отличие от других мужчин Аракатаки, всегда строго, а то и торжественно одевался и от него всегда хорошо пахло дорогим заграничным одеколоном.
Полковник Маркес был среднего роста, широкоплеч, крепок, энергичен и подвижен (несмотря на недюжинный живот), с седой, волнистой, густой до конца дней шевелюрой. У него были сильные волосатые руки, мощная загорелая шея боксёра и высокий лоб мыслителя, что подчёркивали очки в оригинальной золотой оправе собственного изготовления. Смотрел он сквозь стёкла очков одним глазом — второй потерял из-за глаукомы, хотя внук долгое время был уверен, что из-за того, будто дедушка однажды слишком долго смотрел на белого коня, которого хотел купить, а денег не было. Говорил полковник, внимательно выслушав собеседника, не спеша, веско, взвешивая и нагружая каждое слово и каждую фразу, пустот и случайностей в его красиво интонированной речи не было, сказанное попадало в цель. Человечество делится на тех, кто слушает, и тех, кого слушают, притом даруется это, как правило, от Бога, и даже самые усердные занятия риторикой мало что могут изменить. Дед писателя принадлежал, безусловно, к последним: он говорил так, что его слушали и не перебивали. Ещё ценили в нём щепетильность, собранность, организованность, верность слову и гражданскому долгу. Всецело ему доверяя, жители избрали его казначеем муниципалитета Аракатаки.