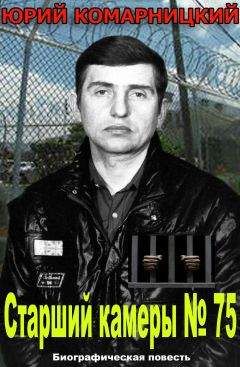Дни тянулись однообразно. Я не хотел торопить ржавое тюремное колесо административного аппарата, не требовал отправки в колонию, которая явно затягивалась. Впереди еще предстояло испытать одну из исправительно-трудовых колоний этого степного края.
Однажды после очередного вывода на работу, по возвращению в камеру, нас ожидал сюрприз: в ней находился незнакомый нам тип — маленький, плюгавенький, с круглым брюшком, весь какой-то обрюзглый, с бегающими колючими глазами на одутловатом лице. Лет ему было около пятидесяти, его облик свидетельствовал, что на воле этот тип вел безалаберный образ жизни. Малолеткам он не понравился.
— Моя фамилия Пьянков, — представился он. — Я назначен в камеру вторым воспитателем.
Мне стало все ясно. Администрация, мне не доверяя, закрепила еще одного старшего, который, без сомнения, является обыкновенной подсадной уткой.
— За что сидишь, папаша? — в первую очередь задали ему вопрос малолетки.
— У меня большой срок будет, дело очень серьезное, — стал объяснять он.
— Ты приговор показывай и статью говори. Кто тебя знает, чем ты дышишь?
У каждого заключенного на руках имелось обвинительное заключение, где описывался состав совершенного преступления. Но Пьянков его показывать не спешил.
— Еще не принесли, — не глядя в глаза ответил он.
По всему было видно, что он что-то крутит.
Один из заключенных, по кличке Хан, подошел к Пьянкову и неожиданно большим и указательным пальцами схватил его за нос:
— Ты, мерин висложопый, показывай объебон!
Этим матерщинным словом заключенные называли обвинительное заключение. По сути, оно означало обман.
— У нас уже есть старший, — Хан указал в мою сторону, — второго нам не нужно.
В какой-то мере я был польщен, но в случае избиения Пьянкова, крайним в этой истории оказался бы я. В администрации рассудили бы однозначно — натравил на конкурента!
— Эй пацаны, так не катит, — вмешался я. — Хан, отпусти мужика. Что, закона не знаешь, мужиков за 50 лет долбить нельзя.
Что касается закона, он существовал только на словах. В камерах избивали людей всех возрастов, всех, кто был слаб и не мог за себя постоять или в чем-то провинился.
Хан недовольно отошел от Пьянкова. У всех заключенных в камере злые глаза. Мое заступничество никому не понравилось — Пьянков определенно вызывал какое-то раздражение.
Пьянкову дали верхнюю нару. Этот тип на свободе был, с его слов, главным энергетиком города. Образование у него имелось, это я сразу понял, но в его причастии к одному громкому делу, потрясшему Казахстан, я сомневался.
Вечером, когда все улеглись, мы потребовали от Пьянкова подробно рассказать, за что он находится в этих стенах.
— Я замешан в известном вам деле подпольной меховой фабрики. Хищение превышает десять миллионов рублей, — начал Пьянков свой рассказ. — Вы, наверное, знаете подробности этого дела, — обратился он к нам.
— Давай, мужик, гони все с самого начала про это дело, — затребовали малолетки. — Дохнуть[12] еще успеем…
— Недалеко от нашего областного города, в городе-спутнике N. успешно была запущена и работала меховая фабрика. Параллельно с официальными делами дирекция этой фабрики вела подпольный прием меховых шкурок, а затем производила реализацию изделий в крупнейших городах страны. Изделия реализовывались через определенных лиц, работающих в торговле. Специально снаряженные на север агенты скупали за бесценок меховые шкуры, доставляли их на фабрику, а затем уже готовые изделия превращались в деньги. Основателями второй нелегальной фирмы являлся председатель конторы адвокатов, заслуженный юрист Д. Деньги, естественно, текли рекой.
— Так вот, желая выйти на международные рынки, председатель «общества» раздобыл пригласительные билеты на международный пушной аукцион.
Кроме всего, Д., посредством этого предприятия, хотел выехать за границу на постоянное место жительства. Но на аукционе им заинтересовались органы внутренних дел. Следы привели в маленький казахстанский город на меховую фабрику. Операция длилась длительное время. Москва не посвящала в свои планы местные органы, поскольку все слои местного правления в той или иной мере были замешаны во взятках и хищениях. Когда «святых братьев» взяли, — хрипло засмеялся Пьянков, — я, фактически маловиновный, оказался тоже здесь.
— Что ты все вокруг да около, говори ясней: за что сидишь? — обратился к нему я, чувствуя, что высказываю желание всех в камере.
Глаза Пьянкова суетливо забегали.
— Я им продал на фабрику бобину кабеля для электростанции, — он назвал огромную длину кабеля, сечение и марку, в чем я ничего не смыслил.
— Ну и сколько тебе заплатили?
— 100 тысяч рублей. Но у органов нет доказательств, бобина проржавела, нет ничего, даже клейма изготовителя.
Чепуха сказанного была очевидна. Во-первых, судя по такому сложному делу, Пьянков никогда не стал бы утверждать, что в нем участвовал. Во-вторых, все эти бредни о ржавчине рассчитывались на уже порядком проржавелые в камерных условиях мозги.
Я промолчал. Будучи человеком доброй воли, любые проявления насилия и агрессивности в камере были мне органически неприятны. Ребята тоже молчали, интуитивно они чувствовали, как и я, в словах Пьянкова ложь.
Тем временем мой новоиспеченный помощник оживился. Чувствовалось, что ему во что бы то ни стало необходимо пере хватить в камере хоть малость инициативы командования. Чтобы завоевать авторитет малолеток, он стал нам рассказывать, как хорошо жил на воле, о своих всесильных друзьях, в состав которых входил даже начальник милиции. Это явно рассчитывалось на отсрочку, в случае если ребята захотят пересчитать ему ребра.
Его болтовню я слушал мимоходом, но вдруг изумился, услышав, что мой помощник читает малолеткам стихи. Стихи были благородного содержания, возвышенные, поэта 30-х годов. Возвышенная наивность даже на свободе могла вызвать раздражение, а здесь, в стенах, звучала прямо-таки кощунственно. Он плел что-то про какого-то Кольку, который в порыве ревности ударил поклонника его любви Таньки пером в бок, а затем искал своей смерти.
Господи! Эти истерзанные дети, которые погибали по нескольку раз на дню от страха быть оклеветанными, от тоски по матери, от голода, вшей и различных кожных заболеваний, они видели в этой самой Таньке в бальном платье обыкновенную смазливую дрянь. А в страдавшем Кольке, который потерял свободу из-за бабы, и в том пострадавшем глупце, что не обошел беду стороной, — дураков.