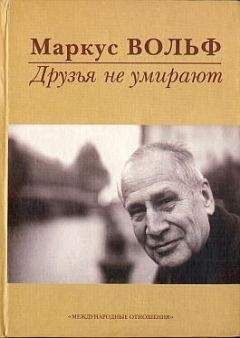Я остался при этом мнении даже тогда, когда в начале декабря после отставки Центрального Комитета СЕПГ во главе с Эгоном Кренцем неожиданно оказался в президиуме Чрезвычайного съезда СЕПГ и когда меня хотели выбрать в Правление партии, преобразованной в ПДС. Я попросил об отводе меня из списка кандидатов для голосования.
Мартин написал мне незадолго до того, как я принял это решение:
«Вчера вечером я услышал по радио о волнующих событиях в ЦК и т.д. и что ты ведешь теперь активную подготовку съезда СЕПГ. Я все время ждал и теперь желаю, чтобы на этом съезде удалось закрепить курс на гуманный социализм».
В реальности же делегаты съезда находились в таком подавленном настроении, что в ходе круглосуточных заседаний речь шла лишь о выживании и сохранении возможности внутреннего возрождения. Сначала нам пришлось прежде всего принести извинения гражданам ГДР за несправедливости, причиненные партией за годы ее руководства государством.
В конце года наши взгляды на положение в стране оставались довольно отличными друг от друга. Единственную для себя возможность активной деятельности я видел в том, чтобы описать свой опыт и наблюдения, полученные в год «поворота» 1989 года, и начал надиктовывать на кассеты записи из дневника. Уже сделанные ранее записи мыслей о моем собственном «тернистом пути познания» должны были войти в давно задуманную книгу.
После штурма центрального здания министерства госбезопасности в январе 1990 года я на несколько месяцев уехал к сестре в Москву, чтобы уйти от возрастающей истерии и поработать над книгой. Мои знания о происходящем дома я черпал из телефонных разговоров с Андреа и поступавших с опозданием газет. Незадолго до мартовских выборов я встречался с правительственной делегацией, возглавляемой Хансом Модровым. Хотя мое возвращение в Берлин было уже делом решенным, встреча с этой разношерстной делегацией, состоявшей главным образом из защитников гражданских прав, стала для меня по существу прощанием с ГДР.
Мартин же, наоборот, с головой окунулся в бурную жизнь! Он с восторгом описывал, что теперь может выступать перед заинтересованными педагогами в ГДР об основных принципах педагогики Вальдорфа. 31 января он тщетно пытался найти меня в Берлине - я уже был в Москве. Он рассказал, что ненадолго приезжал в Лейпциг на выходные, где, как он написал мне в записке, в Университете имени Карла Маркса собрался «Форум за свободное воспитание», в котором приняли участие 1200 человек. В марте, когда он узнал о моем отъезде, он написал мне длинное письмо о виденном в Галле и Лейпциге на переполненных форумах и беседах в кулуарах заседаний.
Из этого письма я узнал много о его педагогических взглядах и склонностях. Для него очень важной была творческая работа с учениками: акварельный рисунок, графика форм, обучение речи, постановка голоса, ритмика. «Это особенно важно, - писал он, - ведь воспитание - это искусство, а не наука. Новые силы, новые идеи возникают не через получение информации, а через новый опыт, возникающий в результате участия человека в созидательном творчестве. Мы столкнулись с глубокой нехваткой истинной гуманности в воспитании, когда в центре должен стоять ребенок, его сущность, все его развитие, а не программа, предписанная сверху и осуществляемая внизу. Примечательно, что на берлинском Доме учителя сделана надпись: «Жизнь станет программой. Она будет господствовать в мире освобожденного человечества». Я, конечно, отношусь с глубоким уважением к человеческой самоотдаче и идеализму Карла Либкнехта в подходе к социализму, который сформулировал это положение незадолго до своей гибели. Но чем же тогда должно быть это послушное программам человечество? Учителю необходимы прежде всего любовь к ребенку, будущему человеку, не к программе. Дорогой Маркус, я пишу все это не для того, чтобы убедить тебя в достоинствах школы Валь-дорфа, а потому, что меня глубоко беспокоят судьбы тысяч людей, которые страдают из-за представлений об изголодавшемся духовно и умственно человеке, порожденных в девятнадцатом столетии тогдашними материалистическими взглядами. Об этом я писал тебе подробнее, и твой ответ меня очень порадовал».
Представления Мартина и его критика нашей системы коснулись меня и в моих поисках причин нашего крушения. От идеалистического понимания меня отделяло многое, с другой стороны, они дали мне много идей.
Мое пребывание в Москве, вероятно, побудило Мартина к этому, так как большая часть его следующего письма была посвящена Достоевскому, который, по его мнению, постиг «суть души русского народа». Мартин относил это, в частности, к персонажам его произведений, которые «сохранили детскую чистоту и веру в добро в других людях». Подробно цитировал он трогательные слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» о дите и русском человеке, которые побудили его написать мне: «И так, как мы в Центральной Европе должны приникнуть к плодотворным семенам, которые посеяли в нашей культуре Гёте, Шиллер, Новалис, Гердер, Жан Поль и которые мы недостаточно лелеяли (за исключением музыки - она осчастливливает и объединяет людей независимо от расы), так ведь и русский народ может обратиться к тем, кто постиг суть русской души».
Спокойствие и уединение на даче моей сестры в Подмосковье, которых у меня наверняка не было бы в Берлине, позволили мне перечитать главы, глубоко затронувшие Мартина. Должен признаться, что «Легенда о великом инквизиторе» произвела в этот раз большее впечатление, чем рассказы старого монаха. Конечно, они содержат чудесные слова о любви к животным и детям, многое, что отличает душу русского народа, если вообще существует «душа народа». Я все же считаю, как и прежде, что одни только обращения к добру так же мало могут изменить пороки общества, как и единоличное господство власти. Правда, как свидетель крушения перестройки я нашел у Достоевского некоторые объяснения причин притока людей в православную церковь, но не нашел ответа на волновавший меня и многих моих русских друзей вопрос. В отличие от меня Мартин все еще лелеял надежду на будущее ГДР. Он видел ее будущее в «воспитании человеком человека». Тем грустнее звучали последние строки его письма: «Время не терпит. Что касается ГДР, то, боюсь, она слепо на всех парусах плывет к западному материалистическому капитализму. К сожалению, следует сказать: никого нельзя винить в том, что они бежали на Запад. Хочется выть, глядя на безрадостные города с отравленным воздухом и бесчисленными развалившимися зданиями, где крыши провалены, стекла окон выбиты, мусор на улицах… Такого ужаса я никогда не мог себе представить, и все это во имя светлой идеи!» Эти слова глубоко ранили меня, подобно обвинениям за мою работу так называемым «шефом шпионажа». Они требовали от меня ответа на вопрос о собственной ответственности и собственной вине за столь жалкий конец исполненного надежд начинания и за то, что так долго ничего не делалось при столь явственно скверном состоянии дел в нашей стране. При возвращении в Берлин весной 1990 года я получил несколько коротких сообщений Мартина о его педагогической работе в Галле и Лейпциге. Он все еще был полон задора и беспокоился о моем будущем: «Будет ли отменен приказ Ребмана о твоем аресте или он будет распространен на ГДР? Какие формы примет охота на сотрудников Штази, от которой ты предостерегал на Александерплац? Лозунг «Нет социализму навсегда» разрушил надежды на гуманный социализм. Те, кто осенью вышел с ним на улицы, теперь почти совсем замолчали». С сарказмом он добавил: «Если это письмо зарегистрирует служба почтового контроля, начнутся спекуляции о тайном сговоре между коммунизмом и антропософией». В следующие месяцы, когда ГДР неслась к своему концу с ураганной скоростью, встретиться нам не удалось. Я был занят тем, что отбивался от бесчисленных публичных обвинений и клеветы, а также от многочисленных непристойных предложений поделиться своими знаниями секретов службы.