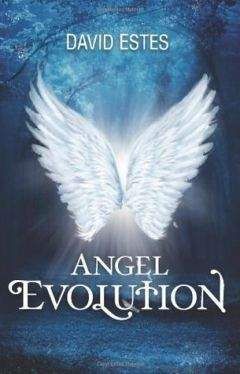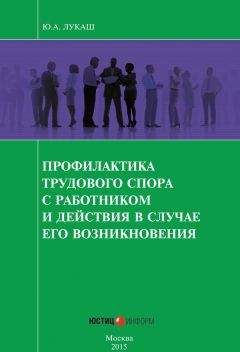«У нас, – пишет Екатерина Николаевна брату Александру (конец 1821 г.), беспрестанно идут шумные споры – философские, политические, литературные и др.; мне слышно их из дальней комнаты. Они заняли бы тебя, потому что у нас немало оригиналов». «Пушкин, – пишет она в другой раз (12 ноября 1821 г.), – больше не корчит из себя жестокого, он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно. Он только что кончил оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша, сколько я могу судить, слышав ее частью один раз». «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек – вечный мир аббата Сен-Пьера{15}. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этими спорщиками (23 ноября 1821 г.). Во время одной отлучки жены из Кишинева Михаил Федорович, рассказывая ей в письме, как проходит его день, писал: «К обеду собираются мои приятели. После обеда иногда езжу верхом. Третьего дня поехал со мною Пушкин и грохнулся оземь. Он умеет ездить только на Пегасе, да на донской кляче». 8-го декабря 1822 г. Екатерина Николаевна пишет брату: «Посылаю тебе письмо кажется от Пушкина; его принесла г-жа Тихонова… Пушкин послал Николаю отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончать. Это странный замысел, отзывающийся, как мне кажется, чтением Байрона. – Его дали Муравьевым, которые привезут его тебе». Это были, конечно, «Братья-разбойники». В Кишинев приезжали к Орловым родные – Раевские, Давыдовы, все люди уже близкие Пушкину, и сам он ездил с Орловыми в Киев и Каменку к их родным; словом, он стал как бы приемным членом семейства[27].
Однако вернемся к Орлову. Мы видели, с какими мыслями он ехал в Кишинев: новая должность открывала ему больший простор для гуманитарной деятельности и, главное, ставила его в непосредственное общение с «народом» в лице серой солдатской массы. На эту массу и направилось теперь все его внимание. Его первой заботой по принятии начальства над 16-й дивизией было категорически запретить употребление на ученьях палок, шомполов и тесаков, его вторым делом – призвать В. Ф. Раевского к управлению уже раньше учрежденной при дивизии ланкастерской школой. И затем в продолжение всего двухлетнего времени своего командования дивизией он широко и энергично действовал в этих двух направлениях. Он не только совершенно искоренил жестокость в обращении с солдатами, но и всеми мерами старался пробуждать в них чувство человеческого достоинства, – например, принимал жалобы относительно наказаний, которым они подвергались со стороны их ближайшего начальства, и наряжал следствия по таким делам. Дивизионная ланкастерская школа под руководством В. Ф. Раевского развилась блестяще, и то, что делалось в ней и что вскоре погубило Раевского, делалось, конечно, с ведома и одобрения Орлова. Не ограничиваясь Кишиневым, Орлов основал ряд таких же училищ в тех городах и местечках дикой тогда Бессарабии, где были расположены отдельные части его дивизии, и тратил на них немало собственных денег.
Военные нравы в тогдашней России были жестоки. В той же Бессарабии, кроме 16-й, Орловской, дивизии, стояла другая – 17-я, которою командовал Желтухин. Чтобы получить наглядное представление о положении русского солдата в то время, достаточно прочитать небольшую «записку» о происшествии, случившемся в этой дивизии в 1822 году, хранящуюся в военно-ученом архиве. В мае этого года корпусный командир Сабанеев, обратив внимание на участившиеся побеги из 17-й дивизии, где из одного только Екатеринбургского полка за шесть недель бежало 28 человек, поручил майору Липранди и аудитору Маркову произвести следствие. Допросив пять человек дезертиров, Липранди так излагал их показания:
1– е. Жители продовольствовали их так дурно, что солдаты терпели даже голод.
1– е. Ученье слишком изнурительное производится два раза в день, во время коего всегда по несколько человек падают во фронт от сильной затяжки на груди ранцевых ремней, и за малейшую ошибку, начиная от дивизионного командира до последнего унтер-офицера, бьют. Один из них показал, что, когда зашли по отделениям направо, унтер-офицер заметил его в ошибке и бил до тех пор по шее и лицу, пока упал без чувств; вообще, унтер-офицеры дают по несколько сот палок. Сверх всего этого, по вечерам учат их пунктикам из рекрутской школы.
2– е. Содержание амуниции в требуемой чистоте, разоряя их, затрудняет до невероятности. Ранцы во всей дивизии выворочены и лакируются сапожною ваксою за собственный счет солдат; перевязи и портупеи натирают белым воском после мелу. В случае же невыполнения по неимению денег и иных средств таковых требований, наказывают жестоко, как например, 2-й гренадерской роты капитан за невычищение воском перевязи наказал одного из них 300 ударов палок.
3– е. Сии самые причины вынудили их бежать; к чему 1-й гренадерской роты рядовой, служащий 12 лет, бывший уже в двух войнах и имеющий три раны, прибавил, что он хотел застрелиться, но как христианин предпочел умереть от руки басурманов и потому бежал, зная, что они режут головы; но, имея несчастье быть пойманным, просит, чтобы его расстреляли.
4– е. Бежавших 17-й дивизии за границей в Молдавии очень много, так что почти в каждом селении встречаешь русского – многие из них турками взяты и будут доставлены.
5– е. Второй батальон Екатеринбургского полка содержит караул в Липканах и Хотине, что, отстоявши сутки в карауле в Липканах, идут в Хотин, и, придя после полуночи, начинают чистить амуницию и утром вступают снова в караул. В этот же день делают и ученье, для того, что генерал Желтухин, несмотря ни на какие обстоятельства, требует, чтобы резервные батальоны равнялись в учении действующим.
На этом черном фоне деятельность Орлова выделяется ярким пятном. Читатель не посетует на нас, если мы приведем здесь два образчика Орловских приказов по дивизии{16}; с той поры прошло 80 лет, но и теперь военные нравы еще далеко не достигли того уровня человечности, какой ставил себе целью Орлов. Вот один из его первых приказов, изданный 3-го августа 1820 года, то есть через неделю или две по его прибытии в Кишинев:
«Вступив в командование 1-ю пехотною дивизиею, я обратил первое мое внимание на пограничное расположение оной и на состояние нижних чинов. Рассматривая прежний ход дел, я удивился великому числу беглых и дезертиров. Устрашился, увидев, что начальство для прекращения побегов принуждено было приступить к введению смертной казни в сей дивизии, тогда как оная казнь в мирное время целой России неизвестна. Сие должно доказать каждому и всем, сколь велико то зло, для искоренения которого принята правительством столь строгая мера, противная столь общему обычаю Отечества нашего.