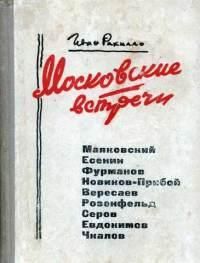— А ты не уходи, — оставляет меня Буданцев, — я скоро вернусь, провожу Всеволода. А Сергея не отпускай!
Оглядываю комнату. Письменный столик. У стены старый диванчик. Сюзане. Висячий абажур. Этажерка с книгами.
Шура недавно приехала из деревни и ещё полна воспоминаний о доме.
— Недавно у нас был страшный пожар, — рассказывает она, — сгорело более двухсот построек. И наш дом тоже сгорел. До утра стлался дым. А на рассвете вместе с другими погорельцами мы бродили по пожарищу, собирали и стаскивали в кучу полусгоревшие вещи, которые удалось вынести. Среди них, между прочим, были книги и рукописи Сергея.
За последние слова я готов её расцеловать. Как хорошо, что они догадались спасти рукописи!
Шура сидит на диванчике, свет из-под абажура падает на её тонкие девичьи руки, на подвижные пальцы, она усердно что-то вышивает.
— В нашем Константинове нет ничего примечательного. Разве сады да синяя Ока. На лодках приезжают к стаду бабы, коров доить. Девочек у нас рано приучают к работе. А мальчишки ездят в ночное или на Оку коней поить. И Сергей вместе с ними ездил…
В сенокосную пору он помогал деду косить. Раздольны, красивы наши заливные луга! Мужики и мальчишки всё лето в лугах, в шалашах живут. По неделям домой не приезжают. Сергей любил эту веселую работу…
Зимой мы ходили в школу. У нас школа посреди села была. Сергей учился хорошо, с охотой, но был непоседлив, озорничал, и в третьем классе за баловство его оставили на второй год. Однако школу он закончил с похвальным листом. Этот похвальный лист долго висел у нас дома на стене в рамке.
Я не перебиваю Шуру ни словом, ни одним лишним движением, боясь спугнуть её застенчивое расположение.
— На высокой горе — церковь. Березы с грачиными гнездами. Старое кладбище. Неподалеку имение помещицы Кашиной. В юности Сергей был влюблен в неё…
Шура рассказывает о золотой рязанской осени, о необыкновенно красивой русской зиме, о весёлых святках, когда Сергей приезжал домой на каникулы.
После пожара отец Есенина купил небольшую избушку и поставил её в огороде. Всё в ней было бедно и убого: половину избы занимала русская печь, небольшой стол, три стула, деревянная кровать — вот и всё убранство.
— Но распахнешь маленькое оконце, и перед глазами — настоящая сказка! Цветут яблони и вишни…
Разложив на диване нехитрые предметы из своей коробки — ножницы, нитки, напёрсток — и обозначив ими, где домик, где яблоня, где вишни, Шура увлечённо продолжает рассказывать об отце, о матери, о детстве брата, даже не заметив, как в комнату со свертками в руках тихо входят Есенин и Буданцев. Остановившись у дверей, они с любопытством слушают её рассказ.
— Отец был худощавый, невысокого роста. Глаза голубые, чистые, всегда по ним угадаешь его настроение. Такие же глаза и у нашего Сергея…
Не замечая брата, Шура рассказывает о том, как отец в детстве пел в церкви, на клиросе. У него был небольшой, но приятный тенор, и ей нравилось, когда он пел песню: «Прощай жизнь, радость моя».
— Эту песню в семье любили все — и мать, и сестра Катя, и я, — бесхитростно делилась Шура.
Уже не в состоянии сдержаться от улыбки, Сергей Александрович прикрыл ладонями глаза сестры.
— Ах ты, красавица моя рязанская! — И он жарко расцеловал её, смущённую до слез. Она тут же выбежала из комнаты.
Сидим за чаем и слушаем новые стихи поэта. Есенин читает сегодня особенно задушевно.
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
До сегодня ещё мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес…
Нежаркая тифлисская осень. Открытые трамвайные вагончики и детские дудочки кондукторов, узкие, кривые улочки старого Авлабара, истошные крики ишаков, знаменитые серные бани с восточными инкрустациями из маленьких зеркал, где бывали Грибоедов и Пушкин, духан «Симпатия» с живой рыбёшкой в фонтане, гениальные в своей наивной простоте чёрно-жёлтые клеёнки художника-самоучки Пиросмани, воды Лагидзе, ветхие деревянные балкончики и ни с чем не сравнимое грузинское радушие и гостеприимство!
Совсем недавно здесь побывал Есенин. О нём много рассказов и легенд.
Есенин встречался на Кавказе с грузинскими поэтами и журналистами. О своём знакомстве с ним рассказал живший в Тифлисе поэт Михаил Юрин.
— Однажды я пошёл в гостиницу к приехавшему из Москвы критику Илье Вардину. В номере было полутемно. В глубоком кресле, спиной к окну, сидел какой-то молодой человек в сером пальто и в шляпе. Он сосредоточенно водил тростью по паркету. Отрекомендовав меня как руководителя местной поэтической молодежи (я это принял как должное), Вардин назвал незнакомца:
— Сергей Есенин.
Я онемел. В этот день в «Заре Востока» были опубликованы его «Стансы», посвящённые П. И. Чагину. Мне очень хотелось спросить у Есенина, что значит слово «стансы». Но я постеснялся…
Юрин рассказал о том, как Есенин выступил на собрании партийного актива Закавказья.
— Это происходило в огромном зале кооперации, недалеко от Верийского моста. Здесь собрался партактив Грузии, Армении и Азербайджана. Собрание вёл секретарь Заккрайкома Серго Орджоникидзе. Среди других в президиуме находился и Сергей Миронович Киров.
Узнав, что в Тифлисе Есенин, товарищи попросили меня пригласить его на собрание партактива.
— Бери машину и вези его сюда.
Я помчался в гостиницу. «Захвачу ли его дома?» Стучу. Дома!
— Сергей Александрович, собирайся! Тебя приглашают выступить перед партактивом. Лучшие люди собрались…
Есенин как-то даже немного растерялся. Потирая руки и волнуясь, он стал ходить по номеру.
— Как же это? Так прямо и поехать?.. Просто так, сразу…
— Так и поедем. Народ ждёт.
Он попросил разрешения на минутку забежать в парикмахерскую побриться, — и вот мы уже подъезжаем к клубу.
Не раздеваясь, мы прошли по залу на сцену. Увидев Есенина, все присутствующие поднялись и стоя приветствовали его, пока он шёл между стульев. Есенин был заметно растроган. Поднявшись на сцену и положив на стул шляпу и трость, он по приглашению товарища Орджоникидзе стал между столом президиума и трибуной и сразу стал читать стихи:
Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с берёзовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста…
Слушали Есенина с жадным вниманием. А когда он дошёл до предпоследней строфы: