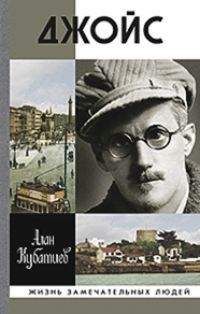Джеймс копил благостыню: его сестра Эйлин видела, что он твердит розарий[10] по дороге в колледж. Затем он опять задумался о себе. Ему стало казаться, что проповедь в дни удаления сыграла на слабых сторонах его души, что вера его выкручивает его как тряпку, вынуждая к неискренности. То, что он считал благочестием, казалось теперь лишь судорогой религиозного страха. Точка зрения, переданная Стивену в «Портрете…», разрасталась в его мыслях, как показывали более поздние письма и замечания. Да и бороться за воздержание оказалось не в пример труднее — для него так просто невозможно. Это он спокойно признавал много раз. Надо было выбирать между непрестанным ощущением вины и вполне еретической реабилитацией чувственности. По убеждениям Джойс раскаивался перед католической доктриной, по темпераменту — перед человечеством.
Его вера пошатнулась, и немедля начался новый процесс: гигантски возросла вера в искусство, создаваемое крайне небезупречными людьми.
В Бельведере он теперь писал и прозу, и стихи. Его брат припомнил одну историю, предназначенную для журнала «Тит-битс», в основном ради гонорара; в ней человек, пришедший на бал-маскарад, переодевшись известным русским дипломатом, проходит на обратном пути мимо российского посольства, думая о «смеющейся ведьме», своей невесте, когда нигилист пытается его убить. Полиция арестовывает обоих, но невеста, узнав о происшествии, понимает, что случилось, и мчится в участок все объяснить и освободить его. Станислаус Джойс говорит, что несколько фраз, описывающих размышления героя о невесте, «были не без грациозности». Три-четыре года спустя Джеймс переписал рассказ в совершенно бурлескном стиле. Подобные трансформации не редкость для идей, которые сначала завладевали им безоглядно; потом он мстил им за это. Многие страницы «Улисса» написаны именно так, и рассказ попал туда же.
Первый цикл стихов Джойса назывался «Настроения», и само заглавие предполагало влияние У. Б. Йетса, чьи ранние сборники настаивали на том, что настроения есть метафизические реальности, запечатляемые художником. Подобно «Силуэтам» «Настроения» не сохранились. Единственный образец этой поэзии — перевод Горациевой оды «К потоку Бандузии». Выглядит это скорее пробой, чем достижением. Таким языком Джойс уже писал — школьные сочинения.
В 1896 году Джойс, еще не достигший нужного возраста, не мог принять участия в промежуточном тестировании. В 1897-м он набирает высший балл и становится тринадцатым в группе из 49 победителей, а также получает 30 фунтов годовых в течение двух лет. Он также получил три фунта за лучшее сочинение на английском, написанное в Ирландии в его возрастной группе. Успех вывел его в число лучших учеников Бельведера. В следующем году он стал старшиной корпуса, и его всегда посылали к ректору договариваться о свободном дне.
После занятий жизнь его, кроме посещений Найттауна, главным образом замыкалась на Бельведер-плейс, 2, в доме члена парламента Дэвида Шихи. Семья Шихи каждую субботу была открыта, что поощряло студентов попроказливее навещать их и их семерых детей. Джеймс и Станислаус бывали там постоянно, а Джеймс по приглашению миссис Шихи несколько раз оставался до утра. Ближайшим его другом там был Ричард Шихи, пухлощекий смешливый юноша, который звал его Джеймс Дисгастин — «отвратительный». Джойс дружил также с братом Ричарда Юджином, на год отставшим от него в Бельведере, и с четырьмя их сестрами — Маргарет, Ханной, Кэтлин и Мэри, самой младшей и самой хорошенькой. К Мэри Джойс несколько лет испытывал тайное, но богатое переживаниями чувство, о котором она и не подозревала. Поэтому с ее братьями ему было легче, а с ней он вел себя замкнуто, застенчиво, порой грубо.
Дома у Шихи любили петь и играть в игры. Джойс почти всегда отмалчивался, пока не начинались развлечения. Он любил, чтобы его упрашивали спеть, и даже напрашивался на просьбу. Сентиментальные и юмористические песни одинаково удавались ему — ирландские, французские и даже елизаветинские. Ирландские, которые он важно и манерно распевал, были «Флейтист из Инишкорти», «Деметриус О’Фланаган Маккарти», «Круглоголовый парень» и «Замок Бларни». Английский репертуар включал разбойничьи баллады вроде «Терпина-удальца», песни времен Генриха VIII («Прежние друзья, добрая компания») и Джона Доуленда («Не плачьте же больше, печальные струи») или что-нибудь помоднее, вроде «Пары ясных глазок» из «Гондольеров» Гилберта и Салливана. Французские песенки были представлены веселой «Пойдем-ка, цыпочка!». У него была чудная приплясывающая версия «Человек срывает банк в Монте-Карло». Все это Джойс пел нежным, но довольно слабым тенором.
Пока Джеймс развлекал компанию, Станислаус просто сидел и отдыхал, потому что знал, что по тугодумию не может тягаться с братом. В шарадах, тогдашней любимой семейной забаве, Джеймс выдавал гениальные вещи. Когда надо было представить слово «закат», он сидел в округлом кресле так, что его макушка едва показывалась над краем спинки. Разыгрывая «твердость», он выслушивал сообщения о катастрофах с полным бесстрастием: в его доме пожар, его имущество погибло, дети и жена получили тяжкие ожоги… Затем легкий интерес возникал на его лице, и он спрашивал: «А что с моей собакой?» Как-то раз они с другом разыгрывали львов, которым должны были бросить юного христианина, и тут вошел чинный молодой адвокат, ранее у них не бывавший. Они набросились на него, порвали на нем одежду, а также, как полагается приличным львам, разломали очки. Адвокат, так и не успев развеселиться, подобрал клочки с кусочками и более не возвращался.
Хотя ему нравились все эти вольности, Джойс продолжал обгонять в интеллектуальном развитии своих одноклассников — он читал взахлеб и со страшной скоростью, прочитывая все написанное понравившимся автором. Одним из них был Джордж Мередит, чье «Испытание Ричарда Феверела» и «Трагические комедианты» ему особенно нравились. Другим — Томас Харди; он ходил в библиотеку на Кэйпел-стрит, чтобы взять «Тэсс из рода Д’Эрбервиллей». Библиотекарь предупредил Джона Джойса, что его сын читает опасные книги. Джеймс легко разуверил отца и уже для него послал Станислауса за «Джудом Незаметным». Станислаус, напуганный тем, что слышал о Харди, стал спрашивать у библиотекаря «Джуда Неприличного»[11]. Джойсу так понравилась оговорка, что позже он рассказывал эту историю как случившуюся с ним. Через несколько лет Харди ему надоел, но тогда он читал его с интересом и всегда уважал за упорство, с которым тот противостоял среднему вкусу.
Новым важным бременем для его души стал норвежец Ибсен, еще один гений, рожденный маленьким народом. Имя его было уже хорошо известно в Англии, в Ирландии меньше. Его любили и отвергали одновременно. «Атенеум» поругивал его произведения за аморальность, а Йетсу они казались обывательскими и проходными. Джойс увидел в Ибсене то, что назвал «духом прекрасного ребяческого своеволия, несущегося сквозь него, как могучий ветер». Он также одобрял отчужденность и замкнутость Ибсена, которые привели его к отъезду из страны и зачислению себя в изгнанники. Правда как осуждение и разоблачение, изгнание как художественная категория: это были полюса мышления самого Джойса. Фигура Ибсена, чей темперамент, говорит он в «Стивене-герое», подобен мощи архангела, занимала для Джойса в искусстве то место, которое Парнелл занимал для него в национальной истории.