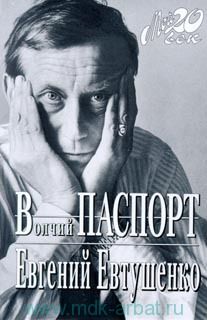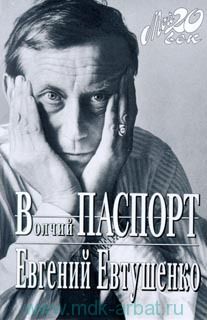– Прости меня Христа ради, Назым… Сними грех с души… Я тебе должен все рассказать…
Ушанка его плакала на пол фиолетовыми слезами.
Назым поднял его:
– Встань, брат… Не надо ничего говорить…
– Нет, я расскажу… расскажу… Сколько лет я в себе это таскаю – уже мочи нет…
Вошедший, захлебываясь собственными словами, рассказал мучившую его историю.
В 1951 году Назыму предоставили в полное распоряжение государственную машину с шофером. Вошедший человек и был тем самым шофером. Они подружились, и Назым однажды даже побывал у него в гостях.
В 1952 году шофера пригласили на Лубянку. Каково же было его потрясение, когда перед ним оказался сам Берия.
– Знаешь, кого ты возишь? – спросил Берия.
– Лауреата Премии Мира… великого поэта… турецкого коммуниста… друга Советского Союза… – недоуменно ответил шофер.
– Ты возишь не друга Советского Союза, а врага… – процедил Берия. – Опытного, хитро замаскированного под революционера. Он хочет убить товарища Сталина. Но мы не можем арестовать его: он слишком знаменит, да к тому же турок… Ты должен помочь нам убрать его… Что стоит для хорошего профессионала-шофера сделать правдоподобную аварию! Одним шпионом будет меньше.
– Не верю… – сказал шофер. – Он мне как отец родной…
– У нас у всех только один отец, – мрачно сказал Берия.
На следующий день шофера вызвали опять на Лубянку, требовали согласия.
Шофера избивали, но он не соглашался. Тогда в кабинет ввели его жену, а затем несколько отпетых уголовников.
– Эти милые мальчики несколько лет не пробовали женского тела, – сказал следователь, красноречиво показывая глазами на них, а потом на жену шофера. Шофер все понял и согласился.
Несколько раз его предупреждали, что это должно произойти завтра, но в последний момент все почему-то отменялось. Затем умер Сталин, расстреляли Берию… У Назыма появилась своя личная машина – государственная стала не нужна. Шофер ушел работать в такси – лишь бы оказаться подальше от государства, чуть не сделавшего из него убийцу. Но вина перед Назымом мучила его, жгла, не давала покоя. Вот он и пришел покаяться.
Во время этого рассказа, от которого у меня шел мороз по коже, я смотрел не на шофера, а на Назыма.
У него была выдержка настоящего подпольщика. Ни один мускул не дрогнул на его лице.
Или он, быть может, догадывался об этом и раньше?
– Сними грех с души, Назым… – еще раз взмолился шофер.
– Нет на тебе греха, брат, – ответил Назым. – Давай лучше выпьем водки. Мне, правда, врачи запретили, но с хорошим человеком немножко можно… А ты честный человек, брат. Как твои дети, жена? Я ее хорошо помню. Она сделала такие вкусные вареники с вишней, когда я был у вас дома… Кстати, ты знаешь, что «вишня» – это турецкое слово?
Никто из нас этого не знал.
Кажется, у каких-то высоких чиновников ООН такие паспорта существуют. Я ни одного такого паспорта не видел.
Но Назым принадлежал к тем людям, которые такой паспорт заслужили всей жизнью, а не по должности.
Власти его собственной страны когда-то делали все, чтобы о Назыме забыли.
Но у них это не получилось.
Когда я впервые приехал в Турцию в 1986 году, ни одна из его книг не была выставлена на стендах книжной ярмарки в Анкаре и ни один из турецких школьников и их учителей, которых я спрашивал, не слышал его имени. Но турецкий молодой поэт Издемир Инзе подарил мне его фотопортрет, который, как маленькая икона, висел у него дома. Я повесил этот портрет над моим письменным столом в Переделкине на выцветший деревянный колышек с надписью Б-13, обвитый колючей проволокой от колымского лагеря. Вот чем кончились иллюзии многих идеалистов той же породы, к которой принадлежал и Назым. Турецкой тюремной решеткой он был спасен от советской тюремной решетки, и если бы в начале тридцатых он не уехал на родину, то вряд ли бы прожил дольше тридцать седьмого года. За гранью этого года он был так же непредставим, как Мейерхольд, Маяковский.
Он был напоминанием о неосуществленности стольких революционных иллюзий, живым, неотразимо обаятельным анахронизмом романтики двадцатых годов и запоздалым трагическим свидетелем эпохи Великого Предательства Надежд.
Он вел себя в СССР не как иностранец – в отличие от многих наших трусливых соотечественников, смело высказывался по любым поводам, критиковал власти, защищал талантливых и преследуемых. Это надоело начальству. Его сатиру на советскую бюрократию – пьесу «А был ли Иван Иванович?» – в конце концов запретили. На него рычали, что не имеет права, как иностранец, соваться в наши внутренние дела. Но он считал, что в человечестве нет «внутренних дел», и был прав. Он вынужден был уехать в Польшу, а когда вернулся, добился-таки советского паспорта. Помню его творческий вечер, когда после официальных поздравлений с получением советского гражданства он поднял над головой советский паспорт и весело и гордо сказал, что теперь ни один Иван Иванович не сможет его упрекнуть в том, что он иностранец и не имеет права «соваться».
Его сердце, изнуренное тюрьмами, в конце концов не выдержало, подвело.
Однажды он, как обычно, пошел утром за московскими утренними газетами и, придя домой, умер, прижав их к сердцу, как будто всю нашу планету с ее страданиями и ее столькими надеждами – уже обманутыми или еще надеющимися сбыться.
Такие люди, как Назым, не бывают иностранцами ни в какой стране. Их сердце становится всемирным паспортом.
Роль, которую сыграл Назым в истории, была ему предназначена. Только предназначенную роль можно сыграть гениально.
Где-то в середине семидесятых Сахаров пригласил меня к себе на квартиру и предложил подписать коллективное письмо, требующее отмены смертной казни. Я тоже был за эту отмену, но в то время не особенно верил в действенность коллективных писем. Их авторов, так называемых подписантов, затем начинали таскать на ковер по отдельности. Некоторые из них отрекались от своих подписей, говоря, что их ввели в заблуждение, каялись. Бюрократия не только карала – она и покупала, и раскалывала. Эпоха казней на плахах прошла – настало время тихого удушения в парадных. В черные списки попадали имена людей, выступавших не только прямо против правительства, но и просто с гуманными инициативами. Часть либеральной интеллигенции, корчась под прессом «культа безличности», вела себя по советской модификации галилеевского восклицания: «А все-таки она вертится!..», добавляя под давлением: «…но, конечно, только по указанию партии».
Я сказал Сахарову, что напишу собственное письмо с требованием об отмене смертной казни. Сахаров понял мои доводы и сказал, что это тоже было бы неплохо. Я добавил, что тем не менее не верю в положительный результат этих писем. Сахаров задумался и печально, но твердо сказал: «Да, конечно, вы правы… В данной ситуации это, конечно, лишь жест… Но сейчас и гуманный жест важен… Даже если он безнадежен…»
Сахаров не переубеждал меня, но и его переубедить было невозможно. Он помолчал, видимо перебирая в памяти редкие оставшиеся имена известных интеллигентов, которые могли бы подписать это коллективное письмо, и спросил: «Вы близко знакомы с Любимовым. Может быть, он подпишет?»
Театр на Таганке, руководимый Любимовым, тогда находился под постоянными угрозами снятия главного режиссера, и я ответил: «Подпись Любимова под письмом ничего не решит, но после этого мы можем потерять любимовский Театр на Таганке». Сахаров взглянул на меня своими добрыми, застенчивыми и в то же время сильными, бьющими прямо в совесть глазами и так же печально, но твердо спросил: «А не кажется ли вам, что если наша интеллигенция не будет подписывать такие письма, то тогда мы потеряем всех и уже навсегда: и Театр на Таганке, и самого Любимова, и многое другое?»
Впоследствии Сахаров – увы! – оказался прав.
Так он и жил – печально, но твердо. Что изменило преуспевающего с юности ученого-атомщика, обладателя трех «Золотых Звезд» Героя Социалистического Труда, которому при жизни согласно закону должны были поставить памятник? Что превратило его, такого далекого по характеру от политики человека, в одну из центральных политических фигур эпохи?
Традиционные для русской интеллигенции муки совести.
Водородная бомба, над которой он работал, в конце концов привела к тому, что его собственная совесть взорвалась как бомба, подорвав устои самого крупного в мире милитаристского блока, угрожающего всему человечеству, – бюрократии. Борьба Сахарова была новой по качеству – тонкая, правовая, интеллигентная. Сахаров проявил даже по отношению к бюрократии свою обычную вежливость и воспитанность, послав брежневскому правительству свой дилетантский, но пророческий манифест о мирном сосуществовании, где он провозгласил теорию конвергенции между социалистическими и капиталистическими странами как единственное спасение. Бюрократия не просто отвернулась от Сахарова, но, как многоголовое чудовище, защелкала множеством оскаленных, плюющихся, больно кусающих пастей!