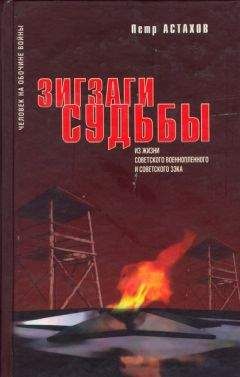На пересылке в г. Молотове (теперь ему возвратили старое название — Пермь), где нас задержали дольше положенного, я дождался все же удобной минуты во время раздачи (вертухая не было рядом) и встретившись взглядом с милой и доброй раздатчицей, едва слышно спросил:
— Девушка, милая, не отправишь ксиву на волю?
Возможно, что вопрос озадачил ее — это могла быть провокация и тогда прощай пересылка, но она поверила мне и улыбнувшись сказала:
— Давай, — и протянув миску, рассчитывая уже сейчас получить от меня записку.
— Не сейчас, вечером…
Так робко возникло это знакомство, при котором она не только согласилась выполнить рискованное поручение, но и ободряюще улыбнулась в доказательство принятого ею решения.
Вечером я передал записку с адресом родителей. Уже несколько лет я не имел возможности писать письма домой — в особых лагерях переписка была запрещена. Потом я узнал, что раздатчица с пермской пересылки выполнила просьбу и родители получили мое известие.
Я вспоминал об этом не раз — добрый порыв и женское участие в тех условиях было особенно дорого!
В Красноярске, в четырехэтажном здании первой тюрьмы, куда я попал перед отправкой в лагерь, я невольно подслушал разговор заключенных из разных камер. Такая практика существовала, об этом я знал, но столкнулся я с нею впервые.
Окно было открыто, и до слуха доносились позывные:
— Пять-пять! Пять-пять! — потом следовала пауза и снова: — Пять-пять! Пять-пять!
Кто-то выходил на связь и просил 55-ю камеру.
Обычно к такого рода связи прибегали уголовники. В первой тюрьме Красноярска мне неоднократно приходилось наблюдать, как с верхних этажей на самодельной бечевке опускали вниз в подвальные помещения, где находились карцеры, хлеб, курево. Такова была реакция блатных из общих камер на призыв о поддержке — «подогреть», как они говорили, дружков из карцера. На сей раз камеры находились на одном этаже и нужно было уметь забросить бечевку на высунутую в окно швабру. Один конец ее привязывался к решетке, а на другом находился спичечный коробок. Для веса в коробок кроме записок и табака засовывали еще что-либо потяжелее (камешки, штукатурку), чтобы бечевка летела в нужном направлении.
Подготовив все необходимое для «почты», бечевка собиралась в лассо и кидающий подавал сигнал в соседнюю камеру:
— Держи «коня»!
Удачно брошенный конь подбирался соседями и возвращался обратно, когда с ответом, когда с поручением.
Разговор соседей был слышен хорошо — переговаривался мужчина с женщиной. Объяснялись по «фене», но смысл был понятен. Необычная просьба «блатаря» звучала дико и вызывающе — он объяснял своей «знакомой», которую увидел однажды из окна камеры в прогулочном дворике, что ему без «бабы» невмоготу.
— Пойми, я дохожу. Пришли обещанное… — он называл своим именем то, что обещала она, и просил «это» положить в коробок.
И чего только не услышишь здесь?!..
Меня продолжало разбирать любопытство, я хотел дождаться окончания переговоров.
Наконец стороны договорились, женщина пошла выполнять обещанное.
5.
В Горьком на «Соловьевой даче» — так окрестили ее по фамилии полковника Соловьева, начальника пересыльной тюрьмы — мы задержались и «потеряли» здесь несколько человек блатных, которые, узнав дальнейший маршрут, решили здесь «тормознуться», чтобы избежать участи остальных зэков — нас везли в Воркуту.
Один молодой воришка прикинулся умалишенным. Его друзья тут же стали «бить тревогу» и требовать от надзора немедленно убрать его из общей камеры и перевести в одиночку.
— Заберите его, он еще задавит кого-нибудь, — стучали они в кормушку, требуя изолировать «психа».
Его забрали, но посадили в карцерную одиночку, на каменном полу которой была вода. «Психа» это не смутило. Он знал, что за ним наблюдают в «глазок», и войдя в роль, стал ползать на карачках по воде. Когда вертухай передал ему утреннюю пайку хлеба, он схватил ее и начал растирать на мокром полу, приговаривая при этом: «Ваня, Ваня, Ваня!» Другой рукой он описывал круговые движения на голове и так же методично повторял: «Ваня, Ваня, Ваня!» От пайки ничего не осталось, она исчезла в грязной воде карцера, но комедия продолжалась. Он вывернул электролампочку, разбил ее и, когда надзиратель открыл дверь, чтобы выяснить почему в камере темно, увидел на полу «психа», жующего осколки. После этого его забрали в больничку, а что стало с ним потом, никто не мог сказать.
Другие прибегали к более известным средствам — мастыркам. В руку или ногу пропускали иглу с ниткой, обильно смоченную слюной. Через день-другой пораженное место становилось багровым и процесс заражения грозил перейти в тяжелую форму. Таких «мастырщиков» обычно оставляли на пересылке до обретения ими состояния, позволяющего двигаться. Некоторые удивляли пришитыми к голому телу пуговицами, вскрытыми венами. Главная цель в таких случаях достигалась — отстранение от дальних этапов на Север, они оседали в ближних лагерях, где условия жизни были менее суровы и можно было «кантоваться» за счет других.
В мой вторичный приезд в Воркуту летом 1950 года произошло необычное событие. Уголовники центрального пересыльного пункта решили «гульнуть» в женской зоне. В этот год мужские и женские зоны были разделены колючей проволокой, но это не смущало бандитов. Убрав внутренний надзор, они устроили пьяное гульбище в женских бараках. Утром, когда военизированная охрана попыталась навести порядок силой, ей этого сделать не удалось. Пьяные, безоружные бандиты вытеснили краснопогонников за проволоку.
Вакханалия продолжалась, вызвав испуг начальства. Срочно потребовали принять решительные меры от руководства ВОХРы. Бандитов нужно было изолировать, хотя сделать это было непросто. К пересылке подогнали вагоны-краснухи с собаками и автоматчиками. Блатных с трудом собрали на плац и заставили раздеться донага. В таком виде, поодиночке, их сопровождали в вагоны, а затем приносили тщательно обысканную одежду, чтобы в вагон не попало колющее, пилящее, режущее…
6.
Летом 1950 года я вернулся в Воркуту после двухлетнего содержания в тюрьмах Кирова и Москвы. С новым сроком возвратился в «родные пенаты». По дороге познакомился с инженером из Минска — Николаем Пигулевским. Он тоже уже был в Воркуте и работал там несколько лет в шахтном управлении как специалист горного дела. Я тогда еще не представлял себе шахтного хозяйства, а квалифицированные беседы в дороге с Николаем — дипломированным горным инженером — расширили мои представления, я с интересом слушал его увлеченные рассказы о работе над новым горным комбайном для посадки выработанных лав и извлечению стоек для повторного или многократного использования при крепеже кровли. Я задавал много вопросов, и это нравилось ему — он видел во мне понимающего слушателя и охотно делился знаниями о шахтном хозяйстве. Это общение получило дальнейшее продолжение, когда с пересыльного пункта нас направили на шахту № 8, там работал Николай до отъезда на переследствие в Минск.