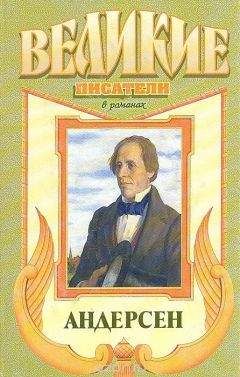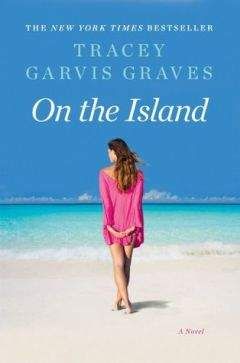Как это похоже на то, что напишет о Чехове один из лучших русских критиков. Он напишет, что тот пьяным умрёт под забором. Чехов не забыл этого до самого конца жизни. Андерсену Мейслинг будет сниться до конца дней.
Гимназист еле сдерживал слёзы. Ах, эти отношения ученика и учителя! Тут действует единственный закон: закон противоборства душ. Андерсен, однако, успокоил себя, что Мейслинг мешает не по злобе, а страдая за него. Подобные наивности спасали его от смертельной оскорблённости на мир. Это было свойство натуры: даже плевки в лицо он путал с жемчугами. Он пошевелился: ноги затекли. И это не понравилось Мейслингу.
— Да сидите же смирно! Вот тоже один из ваших недостатков! Если вы так ведёте себя, когда спокойно исправляют ваши ошибки и высказывают вам ваши недостатки, то что же будет с вами на экзаменах? Надо уметь владеть собою!
Мейслинг был доволен, что не сорвался на крик. Будучи собой доволен, он позволил себе немного расслабиться:
— Вы лентяй.
— Я стараюсь, — выпалил гимназист.
— Вы стараетесь быть лентяем. Вы — помешанный. Осёл!
Это переполнило чашу терпения даже у такого эталона терпеливости, каким был Андерсен. Он выбежал из класса, давясь слезами. Ему был двадцать один год, а с ним так несносно обращались, и он ничего не мог с собой сделать, ведь Мейслинг мог нажаловаться на него, и его могли выгнать из гимназии за неуспеваемость, к тому же — к тому же — Мейслинг мог написать Коллину и выставить его в ужасном свете.
И ещё ему вновь вспомнился Оденсе, где многие относились к нему как к сумасшедшему. И Мейслинг говорит то же самое. Как он боялся сойти с ума! И в то же время услужливое воображение подсказывало ему сцену из истории: он сошёл с ума и служит шутом при короле; он успокоился. Картина короля и его, Андерсена, в средневековом замке выковалась из его страдания и позволила уединиться от действительности в свои мечты. Он не убегал от себя: он к себе привыкал.
Всю неделю Мейслинг делал вид, что Андерсена вообще не было в классе. Мейслинг всем видом своим давал понять, что он терпит. И за столом он был молчалив с Андерсеном и смотрел мимо него.
В воскресенье Андерсен принёс очередное сочинение по латыни. Оно было ничуть не лучше первого — латынь явно не желала дружить с поэтом. Правя сочинение, Мейслинг тяжело вздыхал: у него был такой вид, точно именно из-за поведения гимназиста директора гимназии ждёт ад.
— Вы мне до смерти надоели. К тому же я ведь знаю, что вы никогда не простите мне того, что я высказал вам истину.
А в классе Мейслинг заявил, что таких, как Андерсен, нужно сажать в кунсткамеру.
Каким беспощадно тупым чувствовал себя Андерсен! Интонация и давление директора гимназии были таковы, что он действительно чувствовал себя таким, каким видел его Мейслинг. Андерсен ясно понимал: экзамена он не сдаст!
Он написал Коллину, что теперь трудно в его возрасте учиться ремеслу, и просил пристроить его в контору, уповая на честность неудавшегося гимназиста. Ему всё равно было, где служить. Он написал и умирал в ожидании ответа.
Мы в юности так часто думаем о службе. За всю свою жизнь Ганс Христиан Андерсен не будет находиться на государственной службе ни одного Божьего дня. Ни одного. Есть, есть в нём что-то от Александра Сергеевича Пушкина.
Прекрасная жизнь никогда не рождает сказок. Сказки — это страдания, для которых найдена достойная форма. Андерсену — жалкому, нищему, забитому — всю жизнь помогали, не могли не помогать. Преподаватель Берлин спас человечеству Андерсена. Он преподавал еврейский язык, любил общаться с языковедом Мейслингом, последний частенько приглашал его к себе. Он любил с ним советоваться и о делах гимназии. В сравнении с гимназией в Слагельсе новая оказалась гораздо больше, и руководить ей было куда сложнее. Берлин был умён — это не редкость; но он был добр — это было бесспорным достоинством, к тому же доброта его была не отвлечённой, а деятельной. Постепенно он понял, как смертельно было Андерсену в доме Мейслинга. В сущности, это был не дом, а пыточная камера. Если бы Берлин был уверен, что Мейслинг способен внять его словам, он бы поговорил с ним об Андерсене, но манера общения с гимназистом у директора гимназии была такова, что рассчитывать на его понимание не приходилось. Только личный разговор с конференц-советником Йонасом Коллином мог спасти гимназиста Андерсена. Нужно было иметь огромное мужество, чтобы, будучи преподавателем, пойти против директора гимназии...
Советник Коллин никогда бы не поверил Андерсену — тот подсознательно понимал это и потому не смел лично рассказывать об издевательствах Мейслинга. Но слова Берлина подействовали на Йонаса Коллина. Жалобы в письмах оказались правдой, и Коллину стало немного стыдно перед гимназистом.
Когда Мейслинг узнал, что Коллин требует, чтобы его гимназист вернулся обратно в Копенгаген, гневу его не было предела.
Он топал ногами, ругался на Берлина, пообещал, что стихи Андерсена навсегда останутся жалкими и не сгодятся ни на что, кроме гниения на полках букинистов.
Андерсен хотел поблагодарить Мейслинга, он уже тогда был весьма услужлив и понимал, что не стоит оставлять позади себя врагов.
Но директор с ненавистью отбросил все его попытки.
— Вы абсолютное ничтожество, забирайте свои вещи как можно скорее!
— Но, господин Мейслинг, я хотел поблагодарить...
— Будете благодарить дьявола на том свете.
— Я верю в Бога...
— Вы кончите свои дни в сумасшедшем доме! Обещаю вам!
— Нет, не говорите так, не говорите, господин директор!
— Убирайтесь в ад!
Андерсен тяжело вздохнул. От напряжения его сердце готово было выпрыгнуть из грудной клетки. И он знал: выпрыгнет! Вот сейчас... Он отнял от груди руку, чтобы не мешать своему сердцу. Но оно осталось на месте.
— Здравствуйте, господин Копенгаген!
— Здравствуйте, господин Андерсен!
Свершилось, свершилось, свершилось! Он вновь в столице, где Мейслинга нет и в помине. Копенгаген не просто город: это мечта.
Он обитал в мансарде на самом верху, и крыши стали его лучшими друзьями. По утрам они блестели в знак приветствия, может быть, они улыбались всемирной будущей славе бедняка? Вряд ли, они улыбались и радовались его молодости.
Черепица горела на солнце, своим блеском как бы разговаривая с Гансом Христианом. А крыши Оденсе относились к нему совершенно равнодушно — так казалось теперь Андерсену. Для них ведь все бедняки были одинаковыми. И было им недоступно знание столицы, они не прочь завести с ними приятельские отношения — ведь и они, и он — уже наверху...