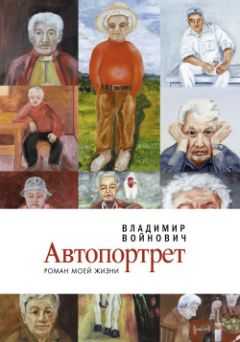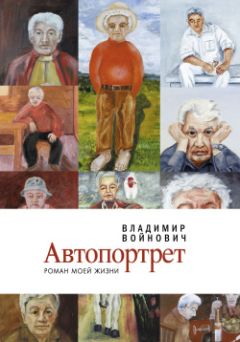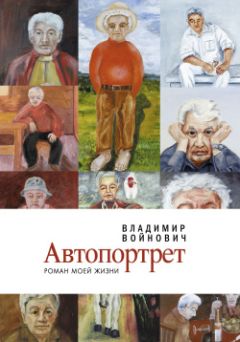Остановил в коридоре, ткнул в меня пальцем:
— Вы Войнович?
Я согласился, что я — это я, ожидая, что мне сейчас от какойнибудь инстанции будет за чтонибудь нагоняй.
Он, широко размахнувшись, протянул мне руку:
— Поздравляю!
Я удивился:
— С чем?
— В «Народном учителе» ваши стихи?
— Мои.
— Замечательные стихи! Особенно про Матросова. — И он стал читать на память: «Плевать на бессмертье. Бессмертия нету. Все смертны: герои, вожди и поэты. Того, кто погиб, не заменят портреты, ни книги любых тиражей, ни газеты. Бессмертье… Имей мы такое устройство, любое геройство тогда не геройство. Я молча стою, я курю папиросу, и смотрит с портрета в глаза мне Матросов. Морщинки еще не изрезали кожу. Такой же, как я, или даже моложе. И если возможно судить по портрету, то в нем ничего и геройского нету…» Может быть, двойное «нету» звучит коряво. Правильнее сказать «нет». Может быть, как-нибудь так: «И если, допустим, вглядеться в портрет, так в нем ничего и геройского нет». Впрочем, это не так уж важно, у вас разговорная интонация. А главное, мне нравится, что в вашем герое нет самоуверенности, которая свойственна нашим поэтам. То есть в конце ваш герой говорит: «Но, если придется, мы сможем…» И тут же останавливается. Он не может честно утверждать, чего не проверил по жизни. И поэтому он сам себя обрывает встречным вопросом: «Смогу ли, не веря в бессмертье, рвануться под пули?..»
— Вы преподаватель? — спросил я робко.
— Я? — он засмеялся. — Вам кажется, я похож на преподавателя?
Я смешался. Наверное, он все-таки какойнибудь очень большой начальник. Может быть, из Министерства просвещения, а то… тут я и сам перепугался своего предположения… а то даже и сам министр.
— Я, — сказал он, улыбаясь, — такой же студент, как и вы.
— Вы? Студент? — удивился я. — Такой…
Я хотел сказать: «такой старый» и запнулся. Он мне помог.
— Ну да, — сказал он, улыбаясь. — Я выгляжу солидно, хотя мне… А вы где живете?
Я сказал, что рядом, в пяти минутах ходьбы.
— Идемте, я вас провожу.
— Так вот, — сказал он, когда мы вышли наружу. — Меня зовут Камил, фамилия моя Икрамов, вы ее, конечно, никогда не слышали.
— Вообщето слышал, — сказал я. — В Узбекистане был когда-то первый секретарь компартии. Его расстреляли вместе с Бухариным. Однофамилец?
— Отец, — сказал мой попутчик.
Оказалось, ему всего 30 лет, а выглядит он старше, потому что слишком рано пришлось повзрослеть. Ему было десять лет, когда отца расстреляли, а мать оказалась в лагере. Потом была расстреляна и она. Самого его арестовали в четырнадцать лет, и еще столько же он провел за колючей проволокой.
— Вы не можете себе представить, какой я был худой, когда вышел из лагеря. А теперь получил компенсацию и пенсию до окончания института. Вот немного отъелся, размордел…
Через некоторое время Камил мне сказал, что тоже коечто пишет, но высказал о себе мнение, которое показалось мне странным:
— Как писатель я говно, но фразу строить умею. Вот у меня есть очерк, который я начал словами: «В полдень в Джалпактюбе тополя почти не дают тени».
Он произнес с такой артикуляцией, что мне правда показалось: это здорово!
— Содержание у меня там, конечно, примитивное, об узбечке, которая долго держится за мусульманские ритуалы, но постепенно прозревает. Но ведь важно не только, что написано, а как, и тут уж я в своей стихии. Чточто, а вкус у меня есть. Вот ты послушай, — перешел он вдруг на «ты». — «Между тем жизнь в округе заметно менялась, и это было видно даже сквозь паранджу…»
Нельзя ориентироваться на детские вкусы
Он мне рассказывал это, провожая меня после занятий до моего обиталища, иногда чуть дальше — до Разгуляя. Во время одной прогулки я вспомнил, что надо позвонить в журнал «Пионер», где лежало мое длинное стихотворение о мальчике, мечтавшем попасть на Марс. какое-то время спустя, когда была напечатана моя первая повесть, я практически все свои стихи выбросил. Выбросил безжалостно, а теперь некоторые рад бы восстановить, но увы. Это помню только частично:
Вдоль по улицам столичным
Мимо зданий и витрин
В настроении отличном
торопился гражданин.
Мчат по улице машины
Зим, Победа, ГАЗ и МАЗ.
Что же нужно гражданину?
Очень нужно гражданину
Срочно выехать на Марс.
…Он на станцию приходит,
Он к одной из касс подходит:
«Я хотел спросить у вас,
Как попасть…» — «Куда?» — «На Марс». —
«Марс… тактак… Ответим мигом…
Марс…» — пошарили по книгам…
Выражают удивленье,
Отвечают с сожаленьем:
«Нет подобных городов
В расписании движенья
Пассажирских поездов.
Обратитесь в пароходство».
В пароходстве с превосходством
Говорят: «Корабль — не поезд.
Ходят наши корабли
На экватор, и на полюс,
И во все края Земли.
Марс, возможно, на болоте,
То есть там, где никогда
Парохода не найдете.
Может, надо в самолете
Добираться вам туда».
Гражданин собою горд,
Он идет в аэропорт.
Поле. Нет на нем пшеницы,
Только травы и бетон,
По бетону ходят птицы
До семидесяти тонн.
А в сторонке от бетона
Дом, высокое крыльцо.
Там диспетчер с микрофоном —
Очень важное лицо.
Он слова в эфир роняет:
«Тридцать первому на взлет!
Вам посадку разрешаю,
Вам посадку запрещаю,
Сорок третий, подержите,
В стратосфере самолет…»
Конца я не помню и потому помещаю это текст здесь, а не в собрании стихов.
В «Пионере» завотделом литературы Бенедикту Сарнову стихи понравились, он обещал их напечатать, но, когда очередной номер журнала вышел и я его купил, моей публикации там не оказалось.
Итак, мы шли из института, я решил позвонить в «Пионер» и спросить, что случилось. Остановились у телефонаавтомата, Камил дал мне монетку. Я набрал номер. В этот момент какойто человек подошел к будке и стал ждать своей очереди. Сарнов снял трубку. Я сказал ему: «Добрый день».
— Добрый, — ответил он. Уже тогда манера отвечать на приветствие одним прилагательным входила в моду. — Вы хотите узнать, почему мы не напечатали ваши стихи?
— Ну да, — сказал я. — Может, вы их перенесли в следующий номер?
— К сожалению, нет.
— Почему?
— Я сейчас соединю вас с главным редактором Натальей Владимировной Ильиной, и она вам все скажет. Минутку. Передаю трубку…