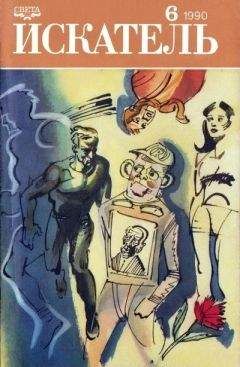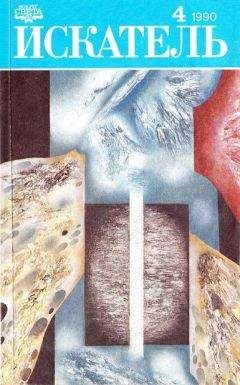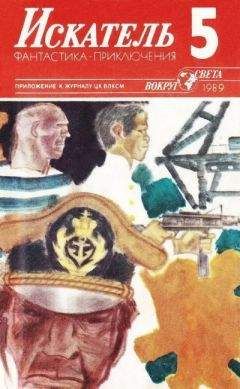Выйдя из здания управления трестом, я почти бегом добрался до своего поселка и вбежал в приемную, но заведующего шахтой уже не было на месте. Утром 18 июля, совсем забыв, что это мой день рождения, я снова появился в кабинете заведующего шахтой. Увидев резолюцию, тот сказал: «Все равно я тебя не уволю – у меня на обеих шахтах большая нехватка людей, а планы надо выполнять. Так что иди и работай!» По дороге домой мне пришла идея – завтра снова отправиться в Свердловск и на этот раз обратиться к районному прокурору с жалобой на заведующего шахтой.
Утром я проник в кабинет районного прокурора, растолкав других посетителей, и остолбенел, увидев, что прокурором оказался не мужчина, а очень симпатичная женщина лет тридцати. Я вспомнил, что видел ее в нашем поселке, когда за прогулы уводили в суд Юрова и Силаева. Наверное, именно по требованию этой женщины с ними поступили очень сурово. Поэтому я сначала испугался ее, но быстро успокоился, когда она вежливо попросила меня сесть в кресло перед своим столом. Я объяснил, в чем заключается моя проблема, и она написала на моем заявлении: «Тов. Конюшенко. Увольте тов. Владимирова. Прокурор Свердловского района. Подпись. 19 июля 1946 года».
20 июля я снова, уже в третий раз, появился в кабинете заведующего шахтой и пригрозил ему, что в случае отказа буду жаловаться московскому начальству. Но заведующий и на этот раз оказался почти неумолим, хотя все же написал на моем заявлении: «Уволю 27 августа 1946 года. Подпись. 20 июля 1946 года».
Позднее я удивился, как это заведующий шахтой не догадался поинтересоваться, бываю ли я на работе. Вполне законно он мог бы расправиться со мной за прогулы.
«Хитроумная» резолюция заведующего шахтой на моем заявлении меня совсем не устраивала: освободившись только 27 августа, я не успел бы приехать вовремя к началу учебного года, а тем более повидаться с мамой, братьями и другими близкими, которых не видел более шести лет.
Только под нажимом своего непосредственного начальника, директора треста, заведующий шахтой 23 июля 1946 года отпустил меня восвояси. Весть о том, что бывший военнопленный уволился с работы и уезжает учиться в Москву, очень быстро стала известной служащим шахтоуправления. Но мне еще предстояло сняться с учета в военном комиссариате и выписаться в паспортном столе районного отделения милиции, а это тоже получилось не сразу.
Наконец вечером за ужином мы обсудили с Ольгой и с ее матерью дальнейшую жизнь мою и Ольги. Я сказал, что собираюсь поехать в деревню и обговорить с матерью и братьями возможный приезд туда Ольги. Но в деревне ей пришлось бы работать только в колхозе, ведь дома ничего своего я не имею. В Москве мне предстоит жить на небольшую стипендию и на деньги матери. Итак, оставался один вариант: Ольге надо устроиться на работу, а я буду приезжать на каникулы. После окончания института мы поедем туда, куда меня направят работать.
Я собирался выехать 28 июля. Но внезапно этому воспрепятствовала мать Ольги, потребовавшая, чтобы мы с Ольгой сходили в поселковый совет и зарегистрировали свой брак. Я, конечно, не стал возражать. Но когда мы пришли в поселковый совет, оказалось, что в совете нет необходимых бланков и неизвестно, когда они будут. Попросили зайти примерно через неделю.
Но Ольга совсем не расстроилась и неожиданно сказала: «Значит, не судьба нам быть женой и мужем. Я все равно довольна, что пожила с тобой. Наверное, такого мужчину, как ты, я уже не найду. Спасибо тебе! Не расстраивайся! Все равно дальше ты не стал бы со мной жить – ты будешь инженером, а я простушка и окажусь для тебя помехой!» От этих слов Ольги я едва не заплакал, – так стало ее жалко.
Сообщение о том, что Ольге и мне не удалось зарегистрироваться, очень огорчило ее мать; она с трудом сдержала слезы, запричитав: «Видимо, и Господь Бог против вашего брака». Потом, усадив всех за стол, добавила: «Ну ладно, пусть этот обед будет прощальным, – и попросила меня: – Пожалуйста, не забывай нас совсем!»
2 августа 1946 года я, с очень большими трудностями в пути, добрался до родной деревни. Шел по знакомой улице и вдруг увидел двух девушек в русской одежде, кативших мне навстречу двухколесную тележку, а за ними – юношу с вилами на плече, похожего на моего брата Геннадия. «Геннадий, Геннадий!» – закричал я. А тот неожиданно ответил: «Нет, нет, я не Геннадий. Я – Толя!» Это оказался мой младший брат, сильно выросший и возмужавший за годы моего отсутствия. Толя тоже не сразу сообразил, что я его старший брат. Затем Толя подозвал младшую девушку, назвав ее Инессой. Это была наша сестра, которая тоже очень сильно выросла. А следующая девушка – Дуня оказалась женой брата Геннадия. После такой встречи я заплакал и никак не мог сразу остановиться. Толя меня успокаивал.
Поскольку Толе надо было ехать в поле за травой для коровы и с ним отправилась Инесса, я пошел домой один. Навстречу мне из сеней вышел юноша, выше меня и шире в плечах, одетый в морскую форму, в котором я признал второго брата – Виталия. Мы обнялись, и я опять заплакал: все было как во сне – не верилось, что я наконец дома.
Затем, не заходя в избу, я скинул со спины вещевой мешок и предупредил Виталия, что должен снять с себя нижнее белье, а также гимнастерку, так как в них водятся вши. Виталий разыскал и принес мне свежее белье. После этого я помылся и вошел с дрожью в коленях в переднюю избу, где опустился на колени перед большим фотопортретом отца и поблагодарил его за то, что я не погиб на войне, а целым и невредимым вернулся домой.
Мамы дома не оказалось. Не зная о моем приезде, она по путевке уехала в санаторий, куда ее уже не раз отправляли, чтобы подлечиться от туберкулеза.
…Я вышел из избы и направился к саду. Его вид очень огорчил меня: из двадцати яблонь, посаженных еще в конце ХГХ века дедушкой, не осталось ни одной. Деревья погибли из-за жестоких морозов зимой 1940/41 года. Уцелели лишь два мощных раскидистых вяза, на которых в детстве я часто сидел и читал книжки, а также шесть черемух, рябина и с десяток акаций. На опустевшие места с огорода перенесли с десяток пчелиных ульев, которые с помощью брата отца дяди Егора продолжали содержать мама и брат Толя.
Пока я осматривал сад и огород, Виталий наколол дров, а с поля вернулись с полной тележкой травы Толя, Инесса и Дуня. Скоро стали накрывать на стол – принесли молоко, ряженку, сливочное масло, яблоки, малосольные огурцы, свежий черный хлеб, колбасу-шортан и, наконец, взятый Толей только вчера из пчелиных ульев мед в сотах, которого я не видел шесть лет.
Когда картофель сварился, приковылял домой с работы в районном центре Батыре брат Геннадий, тяжело раненный в ногу на фронте. Он сразу принес из амбара бутылку водки, чтобы отметить мое возвращение. По его команде сначала все, вылив из рюмок на землю по несколько капель жидкости, помянули отца, дедушек, бабушек, других родных и всех солдат, погибших на войне.