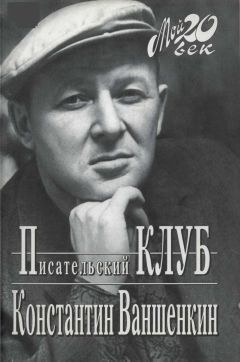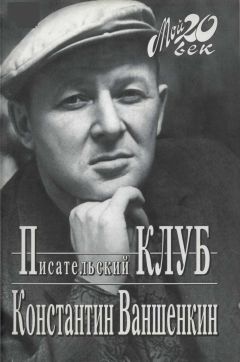— Да никого я не оскорблял, — громко объяснил я с места. — Я просто предлагаю Бека…
Впоследствии я был с Марией Павловной в самых, добрых отношениях. Она хорошая, доброжелательная женщина и, будучи долго председателем Бюро, вовсю тянула многих детских писателей. Ну а тут — что же…
Еще выходил К. Финн. Зачем, говорит, такой уважаемый против такого уважаемого… Есть люди, желающие все смягчить.
Итоги подвел Халдеев.
Да, сказал он, Ваншенкин, конечно, прав, что мы в своей среде должны говорить откровенно. И имена он назвал достойных писателей, мы их уважаем, но не могут же попасть в списки все. Еще он заметил вначале, что я говорил не вполне тактично, а закончил тем, что и довольно бестактно.
Вопрос даже не голосовался. Объявили перерыв. В фойе мне пожали руку не менее пятидесяти коллег, восхищенных и солидарных.
А дале» произошло то, ради чего я, собственно, и начал этот рассказ.
Вскоре мы должны были ехать в Рим, на конгресс Европейского сообщества писателей, членом которого я состоял. Мы были уже оформлены. Ехала большая компания, одни делегатами, другие гостями, но все — члены этой организации. Четверо — К. Симонов, М. Бажан, Р. Рождественский и я — с женами. Дело в том, что названные и еще М. Алигер, Е. Калашникова, В. Левик, Аг. Гатов и совсем молодой П. Палиевский должны были после конгресса еще совершить тур по Италии.
Я зашел в нашу Иностранную комиссию узнать — когда отъезд. Внутри одного из флигелей старинной городской усадьбы, где размещается Союз писателей, как всегда, стоял полумрак, на столе горела лампа. Секретарши не было (я не люблю, когда женщину называют: секретарь). Я потоптался, не решив, подождать или зайти позже. И тут мой взгляд упал на лист бумаги, лежащий посреди стола. Это было «Постановление секретариата», помеченное вчерашним числом. Речь в нем шла о составе отправляющейся группы.
Знаете это ощущение: вроде бы все на месте, кто должен быть рядом, и ты, разумеется, тоже где‑то здесь, но тебя все- таки нет? Так бывает и с привычными вещами — вот они все, кроме той, что ищешь.
Я тут же рванул дверь и вломился к председателю комиссии. Он работал у нас недавно, не успел освоиться. Впрочем, вскоре из‑за какой‑то его промашки ему пришлось уйти.
— Почему меня нет в списке? — крикнул я возмущенно.
— Я человек новый, ничего не знаю, — отвечал он. — Решение секретариата.
— А кто вел секретариат?
— Марков.
И запал мой так же внезапно исчез.
— А! Все понятно! — произнес я почти про себя и вышел.
Постоял у ворот, потом заглянул в ЦДЛ. Было еще рано и
потому малолюдно. В Пестром зале сидел за столиком Юра Трифонов, кого‑то дожидаясь. С ним был его приятель, спортивный журналист. Я взял в буфете рюмку коньяку и чашечку кофе и подсел к ним.
— Ты чего такой грустный? — спросил Трифонов.
— Я не грустный, — отвечал я. — Я расстроенный, — и рассказал о случившемся.
Мимо проходил В. Н. Ильин, оргсекретарь Московской писательской организации, генерал КГБ в отставке, сам просидевший в одиночке несколько лет.
— Можно тебя на минутку? — обратился он ко мне, приостанавливаясь.
Я встал и подошел.
— Хочешь поехать с Инной в Англию, в туристскую поездку?
— Нет, не хочу.
Тогда он понизил голос.
— Твою мать… — произнес он. — Да он бы должен был сказать: вычеркивайте кого угодно, но только не Ваншенкина. Чтобы не было разговоров…
И пошел дальше. Нет, он все‑таки был человек старых правил.
Я вернулся за столик.
— А ты пойди в ЦК, — вдруг посоветовал беспартийный Трифонов.
— Что толку! Он сам член ЦК.
— Просто расскажи, чтобы знали.
И в тот же день я позвонил по телефону Поликарпова.
— Дмитрий Алексеевич болен, — ответил женский голос. — Его замещает Георгий Иванович Куницын.
Я перезвонил по другому номеру, представился и попросил о встрече.
— Приходите завтра в девять утра, — тут же предложил Куницын.
Он поднялся мне навстречу, огромный, плечистый, протянул руку с широченной ладонью. Потом пересел напротив меня за маленький столик.
Я начал не с предмета жалобы, не с результата — меня, мол, вычеркнули из состава делегации, — а по порядку, но покороче. Сказал о партгруппе, о списках, где отсутствуют известнейшие писатели, о своем выступлении.
Он слушал очень внимательно, живо; увлекшись, время от времени раздвигал углы рта и делался похож на большого симпатичного дельфина.
— Она действительно его жена?
— Конечно.
— Но, послушайте, — чистая душа, он не хотел верить! — неужели он вас из‑за этого вычеркнул?
— Так получается. Я член Европейского сообщества, а жена моя член Союза, причем единственная среди остальных жен. Чем же еще объяснить?!
— Сейчас я позвоню Воронкову, — сказал он решительно и потянулся к «вертушке» (К. В. Воронков был оргсекретарем Союза писателей СССР).
Куницын крутил диск, круглые ячейки были маловаты для его пальцев. Воронкова на месте не оказалось.
— Позвоните мне завтра с утра. — И Куницын опять протянул мне свою ручищу.
Я от души поблагодарил его. Конечно, я не строил иллюзий, но было приятно встретить доброжелательство и понимание.
Буквально через час после моего возвращения домой раздался звонок. Говорила Людмила Ивановна из Иностранной комиссии. Она ведала там всеми техническими вопросами отправки делегаций.
— Константин Яковлевич, — спросила она своим характерным высоким голосом, — вы с супругой в Рим хотите самолетом или поездом?
— Мы поездом, — отвечал я.
Разумеется, я тут же позвонил Куницыну:
— Георгий Иванович, спасибо, нет слов…
Мне показалось, что он тоже доволен.
— А Воронков мне сказал: что же он к нам в Союз не пришел? Мы бы сами все устроили!..
В его голосе я уловил снисходительную иронию.
С тех пор я знаю его. Вот говорят: перестройка, люди перестройки. Он именно такой человек — перестройщик. Но у него это давно, чуть не всю жизнь, пожалуй. Сибиряк, с Лены. В войну сапер, четыре ранения. Партийная работа с Академией общественных наук посередине. И главное, насквозь, через судьбу — страсть к правде, к справедливости, к добру. Желание помогать людям — чисто по — человечески, но во имя высшей идеи.
Исполняя обязанности заведующего отделом культуры ЦК, он приезжал в Союз писателей, собирал руководство, давал указания. Те рты раскрывали, понять не могли, настолько это бывало прогрессивно, смело. И с остальным как‑то не вязалось. Ведь дело‑то шло на свертывание инициативы — как раз начало брежневской долгой полосы. Но его же кто‑то посылал, инструктировал? Им в голову не могло прийти, что это он сам, на свой страх и риск делал. Впрочем, риск — да, но страх был ему, по — моему, уже неведом. Когда он приезжал вместе с Демичевым, то, сам того не желая, напрочь забивал его — памятью, эрудицией, просто уровнем.