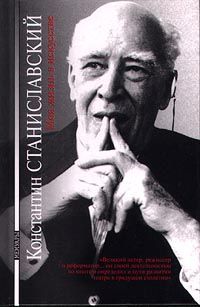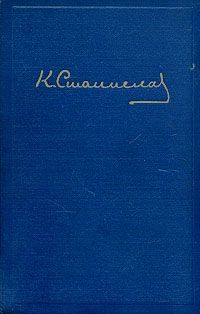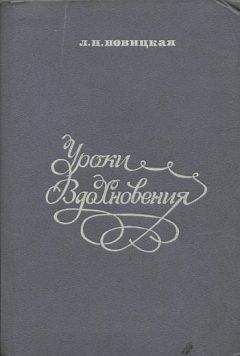Но заботливое ремесло придумало на этот случай целый ассортимент знаков, выражений человеческих страстей, актерских действий, поз, голосовых интонаций, каденций, фиоритур, сценических трюков и приемов игры, якобы выражающих чувства и мысль "в возвышенном стиле". Эти знаки или штампы несуществующего чувства усваиваются еще в утробе матери и становятся механическими, бессознательными, являясь к услугам актера, когда он становится на сцене беспомощным, остается с опустевшей душой.
Что можно делать в таком состоянии, чтоб представиться влюбленным до самоубийства? – Ничего, как только закатывать глаза, прижимать руки к сердцу, воздевать глаза кверху, страдальчески подымать брови, кричать, махать руками, чтобы не дать зрителю соскучиться и – сохрани бог – не допустить паузы, столь желанной в другие моменты, – в моменты артистического вдохновения, когда молчание становится красноречивее самого слова.
Таким образом, естественное, обычное актерское самочувствие – это то состояние человека на сцене, при котором он обязан внешне показывать то, чего не чувствует внутри. Это тот актерский вывих, при котором душа живет своими обыденными, каждодневными, будничными побуждениями, заботами о семье, о насущном хлебе, о мелких обидах, об удачах или неудачах, а тело в это время обязано выражать самые возвышенные порывы героических чувств и страстей, сверхсознательной духовной жизни!
Этот душевный и физический вывих между телом и душой артисты испытывают и переживают большую часть своей жизни: днем с двенадцати до четырех с половиной часов – на репетициях, и вечером от восьми до двенадцати ночи – на спектакле, почти ежедневно. Ища выхода из невыносимого состояния человека, насильно выставленного напоказ и обязанного, против своей человеческой воли и потребности, во что бы то ни стало, производить впечатление на зрителей, мы прибегаем к ложным, искусственным приемам театральной игры и привыкаем к ним. С тех пор как я ясно сознал этот вывих, вопрос "как же быть?" постоянно стоял передо мной, как страшный призрак.
Ясно почувствовав вред и неправильность актерского самочувствия, я, естественно, стал искать иного душевного и телесного состояния артиста на сцене, – благотворного, а не вредного для творческого процесса. В противоположность актерскому самочувствию, условимся называть его – творческим самочувствием. Я понял тогда, что к гениям на сцене почти всегда само собой приходит творческое самочувствие, притом в высочайшей степени и полноте. Менее даровитые люди получают его реже, так сказать, по воскресным дням. Еще менее талантливые – еще реже, так сказать, по двунадесятым праздникам. Посредственности же удостаиваются его лишь в исключительных случаях. Тем не менее все люди от искусства, начиная от гения до простых талантов, в большей или меньшей степени способны доходить какими-то неведомыми интуитивными путями до творческого самочувствия; но им не дано распоряжаться и владеть им по собственному произволу. Они получают его от Аполлона в качестве небесного дара, и кажется, что мы, нашими человеческими средствами, не можем вызвать его в себе.
Тем не менее я задаю себе вопрос: нет ли каких-нибудь технических путей для создания творческого самочувствия? Это не значит, конечно, что я хочу искусственным путем создавать самое вдохновение. Нет, это невозможно! Не самое вдохновение, а лишь благоприятную для него почву хотел бы я научиться создавать в себе по произволу; ту атмосферу, при которой вдохновение чаще и охотнее снисходит к нам в душу. Когда артист говорит: "Я сегодня в духе! Я в ударе!", или: "Я играю с наслаждением!", или: "Сегодня я переживаю роль", – это значит, что он случайно находится в творческом состоянии.
Однако, как сделать, чтобы это состояние не являлось случайным, а создавалось по произволу самого артиста, "по заказу" его?
Если невозможно овладеть им сразу, то нельзя ли это делать по частям, – так сказать, складывая его из отдельных элементов? Если надо каждый из них вырабатывать в себе отдельно, систематически, целым рядом упражнений, – пусть!
Раз что гениям дана от природы способность получать творческое самочувствие в полной степени, то, быть может, обыкновенные люди добьются приблизительно такого же состояния после большой работы над собой и хоть не в полной, высшей, а лишь в частичной мере. Конечно, обыкновенный способный человек никогда не станет от этого гением, но, может быть, это поможет ему приблизиться к тому, что отличает гения.
Но как постигнуть природу и составные элементы творческого самочувствия?
Разгадка этой задачи стала "очередным увлечением Станиславского", как выражались мои товарищи. Чего-чего я ни перепробовал, чтобы понять секрет. Я наблюдал за собой – так сказать, смотрел себе в душу – как на сцене, во время творчества, так и в жизни. Я следил за другими артистами, когда репетировал с ними новые роли. Я наблюдал за их игрой из зрительного зала, я производил всевозможные опыты как над собой, так и над ними, я мучил их; они сердились, говорили, что я превращаю репетицию в опыты экспериментатора, что артисты не кролики, чтобы на них учиться. И они были правы в своих протестах. Но главным объектом для моих наблюдений продолжали оставаться большие таланты, как наши русские, так и заезжие гастролеры. Раз что эти таланты чаще других, почти всегда, пребывают на сцене в творческом самочувствии, кого же изучать, как не их? Я это и делал. И вот чему научили меня мои наблюдения над ними.
У всех больших артистов: Дузе, Ермоловой, Федотовой, Савиной, Сальвини, Шаляпина, Росси, так же, как и у наиболее талантливых артистов Художественного театра, я почувствовал что-то общее, родственное, всем им присущее, чем они напоминали мне друг друга. Что же это за свойство? Я путался в догадках; вопрос казался мне чрезвычайно сложным. На первых порах я лишь подметил на других и на себе самом, что в творческом состоянии большую роль играет телесная свобода, отсутствие всякого мышечного напряжения и полное подчинение всего физического аппарата приказам воли артиста. Благодаря такой дисциплине получается превосходно организованная творческая работа, при которой артист может свободно и беспрепятственно выражать телом то, что чувствует душа. Смотря на других в такие моменты, я, по режиссерской привычке, сам ощущал это состояние творческого самочувствия. Когда же оно создавалось на сцене во мне самом, я испытывал такое же чувство освобождения, какое, вероятно, переживает колодник, после того как разобьет кандалы, мешавшие ему в течение годов свободно жить и действовать.
Я до такой степени увлекся и поверил своему открытию, что стал превращать спектакли в экспериментальные опыты. Я не играл, а проделывал на глазах у зрителей театра придуманные мною упражнения. Смущало меня только то, что ни один из окружающих меня артистов или зрителей, по-видимому, не замечал перемены, происшедшей во мне, если не считать нескольких отдельных комплиментов относительно той или иной сценической позы, движения, действия, подмеченных наиболее внимательными и чуткими зрителями.