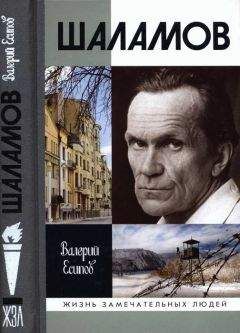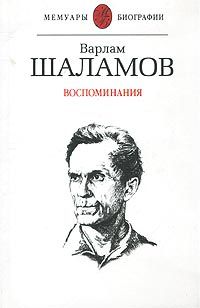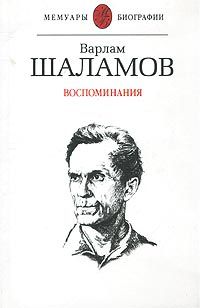Многие из этих мыслей повторяются в 1970-е годы в письмах Ю.А. Шрейдеру, философу и публицисту, в котором он нашел близкого и, главное, понимающего человека. Сколь ни моложе был Шрейдер (на 20 лет), он оперировал схожими категориями, поднимаясь над эмпирикой жизни и пытаясь обнажить ложность целого ряда стереотипов. Познакомились они еще у Н.Я. Мандельштам, а сближение началось после известной полемической статьи Шрейдера «Наука — источник знаний и суеверий» (Новый мир. 1969. № 10), которая понравилась Шаламову «изяществом», но вызвала принципиальные возражения в части недоверия к некоторым положениям естественных наук — в эти науки писатель еще с юности верил безгранично. Он записал в дневнике: «Создается лишний миф — миф сомнения в науке». Но полемика со Шрейдером по этому поводу быстро иссякла и переписка пошла уже по другому руслу — на темы поэзии, литературы, их тайн. При этом Шаламову приходится постоянно обращаться к другой, вечно волнующей его теме — тайне человека, которая для него, впрочем, уже давно и навсегда решена: «…Я не желаю принимать участие в разговорах о победе добра, ограниченности зла и так далее. Пределы подлости в человеке безграничны…»
Найдя в своем новом знакомом критическую личность, которой не надо разжевывать банальных истин, Шаламов стремится выговориться по всем волнующим его проблемам. Важнейший для него вопрос — о взаимодействии искусства и жизни, о так называемой «воспитательной» роли искусства. Он и прежде питал большой скептицизм на этот счет, в полном противоречии с общепринятыми понятиями утверждая, что «искусство не облагораживает, отнюдь». Особенно его раздражала «учительская» роль, взятая на себя с определенного исторического момента русской литературой. Еще в одном из первых писем Ю. Шрейдеру, в 1968 году, он заявлял со всей прямотой лагерной лексики: «Беда русской литературы в том, что в ней каждый мудак выступает в роли учителя жизни, а чисто литературные открытия и находки со времен Белинского[92] считаются делом второстепенным…» (Та же, характерная для Шаламова мысль прозвучала в более развернутом виде в его рассказе «Галина Павловна Зыбалова» из последнего сборника «Перчатка, или КР-2»: «Несчастье русской литературы в том, что она лезет не в свои дела, ломает чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает». В рассказе, действие которого происходит в лагере, эта фраза звучит по-особому символично.)
Но самый важный для понимания философии Шаламова текст на эту тему, сохранившийся у Ю. Шрейдера, идет еще дальше и звучит еще более радикально: «В новой прозе — после Хиросимы, после самообслуживания в Освенциме и на Серпантинной на Колыме, после войн и революций — все дидактическое отвергается. Искусство лишено права на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права учить… Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе тяжкий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики — ученики русских гуманистов. Этот грех им не замолить…»[93]
Слова Шаламова звучат как приговор русской литературе, виновной, по его убеждению, своей «проповедью» в социальных потрясениях XX века.
Является ли этот приговор справедливым? Вряд ли. Очевидно, что к российским — и мировым — войнам и революциям нового времени привел огромный клубок накопившихся социальных противоречий, помноженных на культурные особенности разных стран и на столкновение разнообразных — властных, стремившихся к власти и вовсе не стремившихся к ней, равнодушных и благодушных — человеческих воль и интересов. Ведь и сам Шаламов писал (в «Четвертой Вологде»), что масштабы трагедии, в ее полюсах Освенцима и Колымы, «нельзя было определить ни в каком политическом клубе».
Но в логике Шаламова все-таки есть свое рациональное зерно. И не только потому, что аналогичные мысли — о влиянии русской литературы на русскую революцию — высказывали до него многие крупные русские философы и писатели (Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, В. Розанов, В. Ходасевич и др.), а о причастности западного модернизма (во всех его ветвях, начиная с философской, связанной прежде всего с Ф. Ницше) к возникновению фашизма тоже было написано много работ, с которыми Шаламов хотя бы отчасти не мог быть незнаком. Важнее другое — Шаламов не только ясно обозначил отрицательные стороны извечного «литературоцентризма» русской культуры, но и необычайно чутко угадал особую роль русской литературы названного им периода (второй половины XIX века) — благородной и прекраснодушной в своих намерениях — в формировании и последующем разжигании социальных иллюзий в обществе, в создании целого ряда мифов, вошедших в сознание и даже в подсознание целых поколений. Главным из этих роковых мифов, приведших, на его взгляд, к самым катастрофическим последствиям, он считал «народнический» миф. Действительно, ни в одной из литератур мира высокая гуманистическая идея сочувствия низшим, беднейшим слоям общества, занимающимся тяжелым физическим трудом (народу), не доводилась до такой степени экзальтации и абсурда, и нигде эта категория населения, живущая «простой жизнью» (крестьянство, а затем пролетариат), не награждалась высшими человеческими добродетелями и не превращалась в фетиш, как в России. К истокам этого мифа в литературе Шаламов считает причастными прежде всего Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого и своего любимого Ф.М. Достоевского с его идеей о «русском народе-богоносце» («…в наши дни Достоевский не повторил бы фразу о народе-богоносце», — пишет он в том же тексте).
То, что власть, особенно в сталинский период, опираясь на этот миф («Простой народ лучше всяких бар и интеллигентов»), цинично спекулировала им, приспособив к теории «классовой борьбы» и натравливая народ на интеллигенцию, Шаламов хорошо понимает. Именно это больше всего его и возмущает! В сущности, все его эскапады против «гуманистической» (читай: «народнической») литературы имеют одну цель — защиту интеллигенции, которая, на его взгляд, больше всего пострадала во время социальных катаклизмов XX века и репрессий, особенно в 1930-е годы. Эта мысль четче всего выражена в прямой авторской фразе из «Четвертой Вологды»: «Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата… Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией». В художественном плане, в преломлении через колымский опыт, эта мысль отчетливее всего проведена в одном из последних рассказов «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме». «Это вы, суки, нас погубили! — кричит здесь герой, бывший «хлебороб», ставший в лагере десятником. — Все восемь лет я тут страдал из-за этих гадов-грамотеев!» Невозможно здесь предполагать какие-либо сознательные литературные реминисценции Шаламова, однако эта фраза перекликается с фразой одного из героев «Записок из Мертвого дома» Достоевского: «Вы нас заклевали, железные носы!» Кто же виноват, что этой слепой народной злобы к «благородным» за столетие не убавилось, а, наоборот, прибавилось? Для Шаламова этот вопрос остался открытым, но к современной ему московской интеллигенции — либеральной, фрондирующей и при этом не упускающей практических выгод — он относился, как мы знаем, весьма критично.