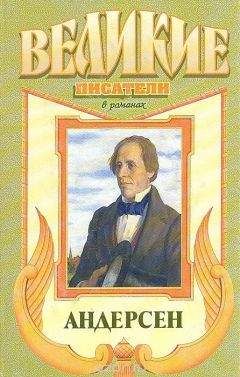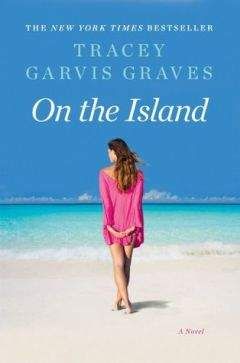— Дело вовсе не в высоком положении. Дай Бог достичь его и вам. Просто отношения дружбы, которые предполагают обращение на «ты», не возникли между нами, вы принимаете за дружбу приятельские отношения, отчасти и помощь, которую оказывает вам отец. Но это не значит, что мы дружны до последней, так сказать, точки. Понимаете ли вы, о чём я говорю?
— Да. — А в голове Андерсена шумело: для него я всего лишь голодранец. Я навсегда останусь для всех голодранцем. И только. И ему казалось, что стены повторяли: «Голодранец, голодранец, голодранец».
— Ну, вот и прекрасно. Я рад, что вы меня правильно поняли. Ваши литературные упражнения научили вас лучше разбираться в людях, и пусть это поможет сделать хоть небольшую, но карьеру.
— Вы ведь знаете, я делал попытки поступить на службу. Но меня не взяли даже в библиотеку.
— Я помню, директор ответил вам, что вы недостойны этого с вашим замечательным талантом, — заметил Эдвард.
— Да, что-то вроде этого...
— Есть ведь и другие места. Служить для мужчины — самое достойное.
Наступила пауза. Эти паузы в разговоре кровоточили. У Андерсена не было никого более близкого в этом мире, чем Коллины. Эрстеды прекрасные люди, один из братьев неимоверно дорог ему, но здесь — здесь его второй дом. Пусть — подобие дома, как дал понять Эдвард, но на всей земле ему больше некуда идти, кроме этого коллинского жилища. Ибо это — дож!
Теперь, в Италии, разговор с Коллином ходил за ним по пятам и унижал.
Первые впечатления об Италии...
«Писать об Италии — значит писать о рае», — думал он, осматривая Миланский собор, Флоренцию, Пизу... Это были воплощённые сказки. Знаки внимания, которые мир оказывал ему.
Античность и искусство Возрождения обновили его. Родился новый Андерсен.
Он рисовал, и его бодрый карандаш сохранил для нас ощущение восторга неопытного художника. Он начал понимать значение формы. Ему стало стыдно за поспешность своей работы, и он надеялся искупить вину «Агнетой», продиктованной восхищением. Это было его первым европейским произведением. Ему стали ясны узость датского мышление и, прежде всего, неприятие европейской культуры в Копенгагене. «Культура — это люди, а не книги», — подумал Андерсен. Поездка давала знания, которые не могли получить профессора копенгагенского университета, не выезжавшие в крупные европейские страны.
На улицах Италии простые люди обсуждали газеты. То же самое творилось в Париже. Это свободомыслие, — говорили консервативные датские туристы.
Флоренция подарила пять дней его восторженному воображению. Он был похож на человека, который раньше ощущал себя Крезом, но вот попал в иные условия и увидел, что он катастрофически нищ... Разбогатеет ли он?
И доли тщеславия не было у него в отношении своего творчества, когда он бродил по городу мастеров.
Это был город-сказка, это был город-волшебство, это был город-рай.
Тринадцатого октября он покинул рай и окунулся в ад Италии. Там остановили бандиты карету, здесь зарезали путника. Грабежи в то время были обычном делом. Шестидневие до Рима унизило своей нищетой, неустроенностью, клопы встречали дорогих гостей. Ядовитые мухи и блохи стали лучшими друзьями путешественников, как бы передавая их от одной гостиницы другой. Лица распухли, да и животы были не в лучшем состоянии. Болели желудки, которые оккупировали петушиные гребешки, прожаренные в прогорклом растительном масле, прокисшее вино и тухлые яйца. Когда Андерсен писал об этом в письмах, он готов был разрыдаться от жалости к самому себе...
В первую ночь Андерсена укусили сто тридцать семь раз — и это только одну руку.
Италия — не только Флоренция, решил он, а точнее — Флоренция вовсе и не Италия.
Восемнадцатое октября встретило их римским солнцем. Андерсен измерял расстояние между Флоренцией и Римом не в мерах длины, а в количестве укусов.
Рима было много. Путешественников — мало, и они растворились в нём.
Он по-прежнему много ходил пешком — причина тому: молодость и отсутствие денег. Особое впечатление на него произвели капеллы монастыря Капуцинов на виа Венетто. Впечатление было столь сильным и глубоким, что легло настроением в начало романа «Импровизатор». Помните слова Достоевского о том, что роман можно написать только в том случае, если вы обзавелись двумя-тремя сильными впечатлениями.
Конечно же, он будет писать о самом себе, рождённом в Италии. Он сблизит своего героя с героем романа. Он покажет своё возможное развитие в благодатной Италии. Здесь — он, Андерсен, должен был родиться, только здесь. Тепло — его свобода, хотя порой жара мешала дышать, и он чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег.
Он ещё не понимал всех перемен в себе. Прежде его влекли темы исторические, теперь он интуитивно пришёл к выводу, что надо взять свою жизнь, перенести её на итальянскую почву и записать впечатления, пока они не успели выветриться.
Андерсен то и дело доставал из кармана записную книжку, куда давно уже привык вносить мысли, записи, заметки, слова тех, кто встречался на пути. Тут толпились на страницах зачатки историй и сказок, интересные фразы, даты, события: исторические и современные, он не надеялся на память, а любая запись могла пригодиться, любая мелочь ждала, когда её примут в дело, буквы нервничали, ожидая, когда придёт их черёд переселиться из записной книжки на страницы родной матери — настоящей книги. Многие удивлялись — даже и друзья: когда же он успевает смотреть, видеть, чувствовать — пишет и пишет, пишет и пишет пока не устанет рука, взбодрит её одним двумя взмахами — и снова за работу, уже и карандаш деревянный устал, а он всё пишет и пишет, пишет и пишет — будто забор ставит, чтобы отгородиться от бедности, нищеты. Эти книги были как поля с полевыми цветами, где нет системы, но есть красота, разноцветье, сама жизнь. Горы этих книг как горы мысли оберегались создателем, часто Андерсен дома перелистывал одухотворённые страницы, возвращаясь в состояние путешественника, дарили то, что именовалось вдохновением, но зачастую это был труд, труд и труд.
Много дней Андерсен вместе с друзьями посвятил осмотру живописных мест: Фраскати, Тусколо, Гроттаферрата, Альбано, Гензано, Неми... Он аккуратно заносил все названия в записную книгу, они пели с её страниц. Он чувствовал, знал — все впечатления пригодятся ему, шагнут в его романы и драматические произведения. О созревающих в нём сказках он ещё не догадывался. А они уже очнулись в нём под влиянием природы Италии и жили собственной жизнью, созревая для иных времён.