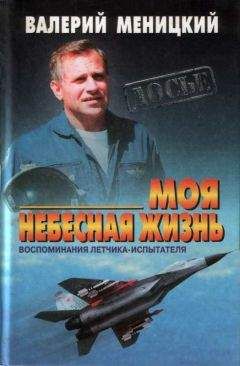В октябре 1888 года Чехов так объяснял Александру Плещееву свою общественную позицию: «Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и — только… Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским (журналисты либерального толка. — Прим. Ю.Б.). Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи… Поэтому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи… Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».
Естественно, такая позиция, занятая Антоном Павловичем, многих не устраивала. Реакционная пресса критиковала Чехова. Писали, что талант его «не глубок». После «Палаты № 6» каждое новое произведение встречали словами: «Новая неудача!» Говорили, что у него позиция «равнодушного человека» и т. д.
Кому-то оказался на руку провал премьеры «Чайки» в Петербурге в Александринском театре 17 октября 1896 года. В антракте публика негодовала: «Символистика»… «Писал бы свои мелкие рассказы»… «Зазнался, распустился»… В коридоре театра Алексей Суворин повстречался с Дмитрием Мережковским, и тот стал говорить, что пьеса «не умна, ибо первое качество ума — ясность». На что Суворин ответил, что у его собеседника «этой ясности никогда не было».
Сам Чехов в письме к младшему брату заметил: «Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжкое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль: не следует писать пьес».
Возвращаясь к Мережковскому, следует сказать, что он был крайне непримирим к Чехову, считал его простым бытописателем и приводил вехи падения интеллигенции: «От Чехова — к Андрееву, от Андреева — к Куприну, от Куприна — к Арцыбашеву, от Арцыбашева — к Вербицкой, — вот настоящие ступени от интеллигенции к обывательщине».
В юбилейные дни, когда в России отмечали 50 лет со дня рождения Чехова, голос Мережковского прозвучал особенно неприятно. На страницах газеты «Русское слово» в январе 1910 года появилась статья «Брат человеческий», в которой Мережковский остерегал общественность от опасности «чеховщины». По Мережковскому Чехов — романтик «сладкого умиления, тихой грусти и недвижности», выразитель одиозного сумеречного настроения либеральной интеллигенции, а такое настроение, подчеркивал Мережковский, весьма пагубно. «Опять Чехов делается современным. И это страшно», — вещал Мережковский, попутно обвиняя русскую интеллигенцию в безвольности и безрелигиозности.
Да, действительно, Чехов представлял в своих книгах лишних людей, непрактичных, неспособных к делу, и вообще писатель презирал «деловой фанатизм». Но при этом Чехов писал и другое, и тут советую читателю вернуться к высказываниям Владимира Набокова.
24 сентября 1902 года Чехов писал из Ялты своей жене Ольге Книппер: «В Москве буду только есть, пить, ласкать жену и ходить по театрам, а в свободное время — спать. Хочу быть эпикурейцем».
Эпикурейцем Чехов так и не стал. Он играл подчас в веселость, оставаясь внутренне всегда в печали. В одном из писем писатель сделал характерное признание: «…Человек не может быть всю жизнь здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским, и надо быть ко всему готовым… надо только, по мере сил, исполнять свой долг, и больше ничего».
Однако мужество Чехова порой сменялось тихим отчаяньем: «Жизнь идет и идет, а куда — неизвестно» и «нет числа недугам моим». Недуги и свели Чехова в могилу в 44 года.
Как заметил Юлий Айхенвальд, «кончина Чехова произвела на многих впечатление семейной потери: до такой степени роднил он с собою, пленяя мягкой властью своего таланта».
«Именно Чехов в своих произведениях дал право на жизнь простому, внешне незаметному человеку с его страданиями и радостями, с его неудовлетворенностью и мечтой о будущем, об иной, „невообразимо прекрасной“ жизни» (О. Книппер-Чехова).
В июле 1904 года горевали все? Ничуть не бывало. «Что вы все рыдаете: умер Чехов, да умер Чехов! — раздражался градоначальник Ялты, генерал Думбадзе. — Этот умер, другой отыщется! Не на чеховых, а на полицейских держится природа».
Рассказывают, что с генералом случился тяжелый припадок, когда он прочитал рассказ «Унтер Пришибеев»: решил, что рассказ написан лично о нем… Генерал Думбадзе не переносил не только Чехова, но и вообще интеллигентов. Само слово «интеллигент» он писал в разрядку — как понятие, требующее особого надзора полиции. Пришибеевы расцвели после 1917 года. Но это уже произошло без Чехова, без этого «живописца белых цветов Вишневого сада» (Айхенвальд).
В июле 1994 года «Комсомольская правда» отметила печальную годовщину — 90 лет со дня смерти Чехова и вышла с публикацией «В доме российской словесности без Антона Павловича одиноко и грустно».
ЧУКОВСКИЙ
Корней Иванович
(настоящие имя, отчество и фамилия —
Николай Васильевич КОРНЕЙЧУКОВ)
19(31).III.1882, Петербург — 28.X.1969, Кунцево под Москвой
Корней Чуковский удивительно многоликий писатель. Бенедикт Сарнов выделил шесть его ликов. Чуковский — критик, автор статей и книг о самых знаменитых его литературных современниках (от Чехова до Маяковского). Известнейший и любимый детский писатель, сказочник («У меня зазвонил телефон». «Кто говорит?» — «Слон».). Переводчик (от Шекспира до Киплинга). «Пересказал» многие шедевры мировой классики — «Робинзона Крузо», «Барона Мюнхгаузена», «Маленького оборвыша». Еще Чуковский — историк и исследователь русской литературы. Труды об одном только Некрасове заняли бы несколько книжных полок. Следующая грань — лингвист. Защитник живого языка от засилья казенных, бюрократических речений. И, наконец, Чуковский-мемуарист, автор книги воспоминаний «Современники», создатель знаменитой «Чукоккалы» и грандиознейшего «Дневника», в котором Корней Иванович предстает как современный Пимен, летописец дореволюционной и советской эпохи.
Шесть ликов, шесть граней. Но удивительно то, что одна грань этого «шестигранника» оказалась сильнее и весомеее всего. Внучка писателя, Елена Чуковская, пожаловалась в «Независимой газете»: Корнея Ивановича Чуковского «воспринимают прежде всего как детского поэта, автора сказок» (15 июля 1999). То есть —