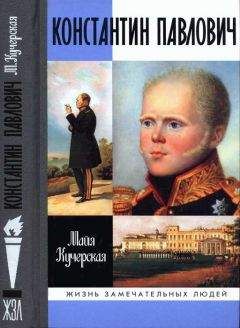Двадцать седьмого января император Николай I почувствовал первые признаки гриппа, который тогда свирепствовал в Петербурге.
Болезнь эта не казалась сначала серьезной; государь смеялся над своим нездоровьем.
Однако болезнь, усилившаяся вследствие умственного напряжения и под влиянием печальных известий из Крыма, развивалась с неимоверной быстротой.
Четвертого февраля ночью государь почувствовал некоторое стеснение в груди, вроде одышки. Исследование показало сильный упадок деятельности в верхней доле левого легкого; нижняя доля правого легкого оказалась пораженной гриппом, хотя лихорадочного состояния не замечалось; пульс оставался нормальным. Больной сидел дома, соблюдая самую строгую диету. К вечеру дыхание левого легкого сделалось свободнее. Государь по-прежнему занимался делами. В следующие два дня болезненное состояние левого легкого исчезло, гриппный же кашель не прекращался.
С наступлением первой недели Великого поста государь начал говеть и поститься, несмотря ни на какие предостережения медиков. Седьмого и восьмого февраля он сидел дома по настоятельной просьбе врачей. Лечивший его лейб-медик Мандт просил себе консультанта; государь назначил в помощь ему Карелля, который последние восемь лет сопровождал его во время путешествий; с восьмого февраля он принял участие в лечении императора. Девятого февраля государь почувствовал себя несколько лучше, хотя кашель усилился; утром он слушал обедню в дворцовой церкви, а потом отправился в манеж Инженерного замка на смотр маршевых батальонов резервных полков лейб-гвардии Измайловского и Егерского, которые приготовлялись к выступлению в поход на театр военных действий.
Лейб-медики Мандт и особенно доктор Карелль старались отговорить императора от этого намерения; они убеждали его не выходить на воздух; но он, выслушав их советы, обратился с вопросом:
– Если бы я был простой солдат, обратили ли бы вы внимание на мою болезнь?
– Ваше величество, – отвечал Карелль, – в вашей армии нет ни одного медика, который позволил бы солдату выписаться из госпиталя в таком положении, в каком вы находитесь, и при таком морозе (23 градуса); мой долг требовать, чтобы вы не выходили еще из комнаты.
– Ты исполнил свой долг, – отвечал государь, – позволь же мне исполнить мой.
В час пополудни император Николай, не обращая внимания на уговоры наследника и просьбы прислуги одеться потеплее, выехал из дворца в легком плаще. После смотра, не возвращаясь домой, он заехал к великой княгине Елене Павловне и к военному министру, который по болезни не выходил несколько дней из дома. При двадцатиградусном морозе простуда усилилась, кашель и одышка увеличились. К вечеру государь, совершенно больной, лег заснуть, но провел ночь без сна. На следующий день, опять не склоняясь на предостережения медиков, он отправился на смотр маршевых батальонов гвардейских саперов и полков лейб-гвардии Преображенского и Семеновского. Этот выезд был последним.
Из воспоминаний Виктора Михайловича Шимана
Выйдя около полудня на прогулку, я с удивлением увидел по одну сторону Невского проспекта выстроившиеся войска в походной форме. Было около 10° мороза. Что бы это значило? – подумал я. Невский проспект вовсе не обычное место для смотров, на это есть манежи. Да и какие это войска и куда собираются их посылать? (Гвардия находилась тогда на побережье Балтийского моря для защиты края от возможной высадки неприятеля; в Петербурге же было очень мало войска, всего по одному батальону от каждого гвардейского полка и несколько резервных батальонов). Машинально я пошел к Адмиралтейству. Очевидно, смотр будет делать государь; иначе не было причины выстраивать войска вблизи дворца. По чувству особого влечения к Николаю Павловичу с юных лет я всегда встречал его с радостным биением сердца, и, чтобы вновь увидеть его, я спешил к флангу войск, где мог услышать и голос его. Я подошел к углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади и остановился позади командовавшего парадом генерала, сидевшего на лошади, на краю фланга. Лица его я не видел и не знаю, кто был этот генерал. Прошло лишь несколько минут, как раздалась команда: «слушай, на караул!» Так как это был левый фланг, то музыки здесь не было; оркестры находились на правых флангах своих частей и хотя заиграли при команде «на караул», но здесь были едва слышны. Николай Павлович, верхом, в мундире, без шинели, не доезжая шагов десяти до фронта, громко произнес по адресу командовавшего генерала: «Bonjour! Comment vous va?» Ответа генерала я не слыхал; вероятно, его не было; но руку его, приложенную к шляпе с султаном, и как будто легкое наклонение головы я видел. Конечно, и мой цилиндр был уже в руке, и глубокий поклон отвешен; но я не успел еще выпрямиться, как раздалось столь часто слышанное, громогласное «Здорово, ребята!» и в ответ «3дравия желаем вашему императорскому величеству», понесшееся вдоль Невского проспекта, по которому, всегдашним молодцом, летел галопом государь.
– В одном мундирчике сердечный… – послышался сзади меня женский голос. Я оглянулся. Какая-то деревенская баба крестилась и продолжала причитывать: – В одном мундирчике… долго ли до беды!
– Ты напрасно беспокоишься, голубушка. Государь всегда так на смотры выезжает: он мороза не боится, – вразумлял я бабу.
– Как, барин, не бояться… Неровен час! Не паренек он молодой… Кровь, чай, не по-прежнему греет…
– Греет, матушка! Его греет: нас с тобой переживет!
– Кто это знает. На все Божья воля….
– Разве ты не видела, как он точно ветер пронесся?
– Видеть-то видела, а все ему след поберечься. Так несдобровать ему…
– Полно каркать и вздор молоть, – произнес я с некоторым раздражением и начал пробираться восвояси, сквозь толпу, которая не расходилась, потому что солдаты еще стояли на месте.
Из очерка Александра Федоровича Шидловского «Болезнь и кончина императора Николая Павловича»
Теперь припадки болезни, с которой боролась долго могучая натура императора, стали развиваться с неимоверной быстротой; он уже не мог выходить из своего кабинета. 11 февраля он намеревался быть у преждеосвященной обедни в Дворцовой церкви, но, почувствовав озноб, не мог стоять на ногах; после убеждения докторов он одетый лег в постель, только прикрывшись шинелью. Превозмогая себя, он продолжал и этот день в постели заниматься делами. Вечером появилась испарина; язык был не чист; оказалась чувствительность печени. Дабы не опечалить подданных, государь запретил печатать известия о ходе своей болезни, что и прежде всегда соблюдалось по его повелению; за несколько дней до кончины он вспомнил об этом и, обратившись к цесаревичу, сказал: «Надеюсь, что не обеспокоили публики бюллетенями о моем нездоровье».