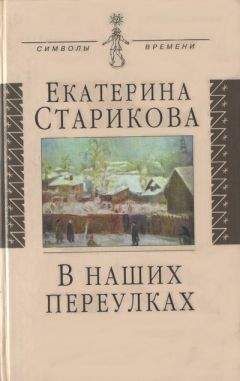Совсем другое увлечение ознаменовало для нас последнюю предвоенную зиму. Это, кажется, я узнала случайно, что в Третьяковской галерее есть платные искусствоведческие кружки. Рубль с человека и не менее шести человек в группе, занятия раз в неделю. Я загорелась заманчивой идеей и уговорила нашу компанию плюс еще кого-то из класса записаться в такой кружок. Ах, какое это было для меня счастье! Каждую неделю в пять часов я стремительно пересекаю Арбат, бегу по Денежному переулку, из Глазовского появляется Лиля, Алеша уже заранее вышел из своего дома, на Кропоткинской стоит Дима, а там всей гурьбой вниз к Москворецкому мосту, через пустынную Болотную площадь и прямо в Лаврушинский. Открытие нового взгляда на знакомые картины объединилось для меня с путешествием в галерею — любимые переулки, строгая Кропоткинская, вид с моста на Кремль — все вместе входило в ощущение эстетического праздника.
Нам очень повезло с руководительницей кружка. Она научила меня не только наслаждаться картинами, но понимать, что они есть результат мысли, усилий и умения художника. Мне стыдно, что я не помню ни фамилии, ни имени руководительницы. Да и длилась эта искусствоведческая эпопея недолго. В течение, кажется, пяти или шести занятий наша руководительница стремительно провела нас по всем векам русской живописи — от икон до Врубеля. И тут же вслед за коротким общим обзором нам было дано задание: выбрать себе по вкусу картину и дать ее анализ в письменной форме. Почти шесть десятилетий прошло с тех пор, а я помню наш тогдашний выбор: «Иван Грозный убивает своего сына» — Алеша, «Иван-царевич на сером волке» — Дима, «Мостик через пруд» (кажется так?) Левитана — Лиля, «Девочка с персиками» Серова — я. А написать мне пришлось оба последних сочинения. Лиля, только приступив к работе, тут же опустила руки. Старательная отличница в классе, она оказалась лишенной свободного воображения. Мальчики больше напирали на драматизм выбранных сюжетов. Я же упивалась описанием «колорита» и «фактуры», щедро используя только что подхваченные на занятиях новые для меня термины. И мое вдохновение нашло отклик: оба моих сочинения были отмечены как лучшие. И тут наша группа распалась. Лиля страдала от уязвленного самолюбия после поражения. Диме надоели эти занятия, и он просто не вышел из своего Еропкинского переулка перед очередным занятием. Алеша, как всегда, молчал, но послушно выходил мне навстречу. Я дважды заплатила за непришедших рубли, чтобы продлить существование кружка. Но где мне было взять эти рубли? И мое счастье кончилось. Регулярно ходить в Третьяковку теперь мы стали с Андреем Турковым, но вкусов своего скрытного брата я так тогда и не узнала.
Нам все более остро были нужны карманные деньги. С удивлением и завистью я смотрела, как отец Стекловых в вечер получения заработной платы торжественно вручает сыновьям некую определенную сумму, очень небольшую, зависящую от возраста каждого из них. Но с этого момента они могли совершенно самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Я никогда не имела такой возможности.
С класса седьмого я пыталась заработать их сама. Через маминых друзей-учителей мне нашли частные уроки. Но, кажется, мой педагогический опыт был плачевен. Прекрасно помню свой позор с арифметической задачей, когда мой маленький ученик с умными, все понимающими глазами иронически наблюдал мои муки растерянности и насмешливо заглядывал из своей комнаты в переднюю, откуда я пыталась незаметно для него позвонить по телефону все тому же Алеше Стеклову с просьбой о помощи в решении этой каверзной задачи. После этого случая я отказалась от урока в Денежном переулке. С алгеброй было легче, и я стала давать уроки какой-то девочке из только что выстроенного энкаведешного дома, отгородившего высокой стеной наш школьный двор от Смоленского бульвара. Дом был удивителен тем, что в нем все квартиры были отдельные. Все! Но больше запомнились мне уроки всё той же алгебры какой-то девочке, жившей на Кропоткинской. Мне заранее было известно, что родители девочки сгинули где-то в лагерях, воспитывают девочку бабушка и дедушка, а еще с ними живет ее дядя, сумасшедший музыкант. Он помешался, когда и его арестовали, хотя скоро выпустили. Аресты меня уже не очень-то волновали, привыкла, а вот сумасшедший музыкант — это было романтично. Оказалось, что и заниматься мы должны в его комнате! Но помешательство дяди проявлялось для меня только в том, что он безмолвно выходил из комнаты, как только мы в ней появлялись. Зато сама комната! Громадный рояль посредине, узкая аскетическая тахта в углу и крошечный круглый столик, свободно передвигавшийся в любое удобное место вместе с высоким торшером под кружевным абажуром. Всё это было довольно потертое и потрепанное, как я сейчас вспоминаю. Но я никогда до того не видела торшеров, а узорчатые тени на потолке от старого кружева так пленили меня, что я больше смотрела на потолок, чем в задачник. Чем кончилась и эта попытка педагогических заработков, не помню.
В предвоенную зиму сорокового — сорок первого года мы все стали частыми посетителями дома Стекловых. Если наш шумный безалаберный дом влек наших друзей непринужденной свободой, то дом Стекловых привлек всех нас размеренным порядком и уютом, которых мы были лишены, а, видимо, мы уже нуждались в каких-то более «красивых» формах существования.
В отличие от всех нас Стекловы занимали не одну, а целых две больших комнаты в пятикомнатной квартире. Их комнаты были разделены передней, в одной из них обитали два брата Стекловы вместе с бабушкой, в другой — их родители. Маленькими школьниками мы заходили обычно только в комнату мальчиков, где стояли три кровати, большой стол, покрытый светлой клеенкой, на одном окне висела клетка с птицей, на подоконнике другого находился аквариум с рыбками, на письменном столе круглился глобус, а на стенах пестрели большие географические карты. В общем, это была знакомая нам обстановка жизни интеллигентных детей. Но в последнюю предвоенную зиму мать мальчиков Наталия Ивановна стала нас приглашать в «гостиную». Супружеские кровати были и там отгорожены шкафами, а остальная часть комнаты действительно ничем не напоминала наши — эти походные лагеря или дортуары с небольшими вкраплениями остатков старинных мебельных развалин. У Стекловых было пианино, на стенах висели неброские картины, овальный стол был покрыт тяжелой с кистями скатертью, на двух этажерках находилось обширное собрание иностранных словарей (Наталия Ивановна была машинисткой на двух или даже трех языках). Но больше всего нас восхищала низкая тахта с кучей ситцевых, темной расцветки подушек и с крошечной лампочкой под таким же ситцевым самодельным абажуром в углу изголовья. Нам представлялось это верхом уюта и изощренной изобретательности. Подумать только, еще и лампочка над тахтой! И хотя, кроме пианино, у Стекловых не было ни одной дорогой вещи, мы правильно оценили уют спокойной, устроенной, а не случайно сложившейся жизни. Это было нечто иное, чем декорации под старину нашей бабушки Наталии Николаевны в Хлебном переулке. У Стекловых не было никакой «показухи», как станут впоследствии говорить, здесь все было подчинено стройному ритму жизни интеллигентной трудовой семьи, где много работают и хорошо учатся, а потом хотят и умеют уютно отдохнуть. И мы с особым чувством отдохновения забирались на ситцевую тахту, непременно зажигая маленькую лампочку в углу, хотя и не собирались читать. Алеша же садился за пианино и играл нам Шопена. Мы чувствовали себя взрослыми утонченными людьми. Никого из нас, кроме Алеши, не учили музыке, хотя мои подруги очень хорошо пели. И на концерты нас не приучили ходить. В детстве, как я уже упоминала, раза два в сезон нас водили в Большой театр на оперы, все известные оперы мы знали, тогда это полагалось. А серьезной музыки не знали. И Алешина игра этюдов Шопена была для нас верхом духовной изысканности.