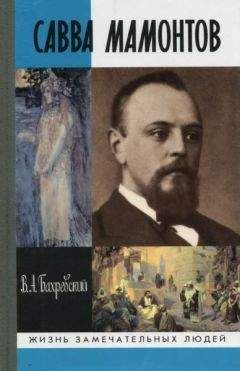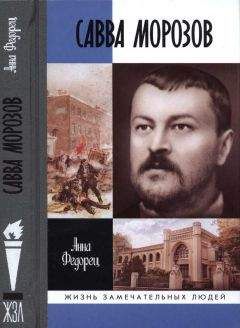Так что бравадой реплику неизвестного Врубеля о знаменитом Репине не назовешь. Это взгляд нового искусства, нового мира на мир признанных, но отживших ценностей. Беда только в том, что новый этот мир так и не вылупился из скорлупы. Врубель ведь только сумел набросать эскизы своих художественных грез, это только намерения, попытка наскоро ухватить прекрасные черты нового мира. Грядущий золотой век искусства оказался злым миражом. Искусство Врубеля тоже похоже на мираж.
Как погублены «Гефсиманский сад» и «Богородица», так гибнут, гаснут его картины, написанные наскоро, уничтожающими друг друга красками.
Новое искусство не состоялось, расшиблось, как расшибся о землю павший с небес врубелевский «Демон»… Превращенное в товар, оно служит деньгам и власти, оно давно уже не каприз гения, а хорошо настроенный инструмент уничтожения человеческой личности.
Инструмент дьявола!
«Миша предан своему Демону всем своим существом… — писал дочери в 1886 году отец художника, — верит, что Демон составит ему имя».
Демон составил имя Врубелю, но он и погубил его…
12
В ноябре 1889 года Наталья Васильевна Поленова писала Василию Дмитриевичу в Париж: «Вчера у нас рисовало тринадцать человек, между прочим и Врубель, который временно здесь работает над эскизом „Воскресения“ для Киевского собора. Он на вид очень неказист, но очень образованный человек и страсть любит философствовать».
Василий Дмитриевич затеял рисовальные четверги еще в 1884 году, чаще всего рисовали костюмированную модель, сохранился, например, портрет Левитана в костюме бедуина. На четвергах бывали Суриков, Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Нестеров, Остроухов, Серов, Коровин, Левитан, Архипов…
В 1889 году, когда Василий Дмитриевич был за границей, Наталья Васильевна четверги поменяла на воскресенья. Собиралась молодежь: Пастернак, Головин, Щербиновский, Хруслов, появлялся Врубель. Он в то время все писал и переписывал эскиз «Воскресения» для Киевского собора. Положение у него было отчаянное, он слал слезные письма Прахову, выпрашивая денег на дорогу, но Прахов на Врубеле поставил крест и на письма не ответил. Просил Михаил Александрович двадцаточку у Остроухова, но тот был занят приготовлением к свадьбе. Илья Семенович желал получить эскиз в подарок, а покупать у сомнительных художников их никому не нужные творения даже за двадцаточку — глупо.
Серова в Москве не было. Вернувшись из Парижа, он гостил в Домотканове, в имении своего друга и родственника Владимира Дервиза. Черна показалась Москва Михаилу Александровичу, ледовита…
Коровин так описывает свою встречу с Врубелем у Сухаревой башни: «Однажды в октябре поздно вечером я шел в свою мастерскую на Долгоруковскую улицу. Фонари светили через мелкий дождик… „Костя Коровин!“ — услышал я сзади себя. Передо мной стоял М. А. Врубель. „Миша! Как ты здесь? Пойдем ко мне…“ Я держал его мокрую руку: летнее пальто, воротник поднят — было холодно. „Ты уже здесь давно?“ — „Дней десять“. — „И ты не хотел меня видеть?“ — „Нет, напротив, я у тебя был, но ты все у Мамонтова, а я его не знаю. Послушай, я к тебе не пойду сейчас, а ты пойдешь со мной в цирк“».
Но почему, спрашивается, Врубель оказался в городе, где у него кроме Серова — знал по Академии — да Коровина, с которым встречался на Украине, — и знакомых-то больше не было?
При хроническом безденежье Михаил Александрович в августе уже совершил длительную поездку в Казань, к больному отцу, которому пришлось выйти в отставку. Александр Михайлович служил председателем казанского военно-окружного суда, он хоть и расстался со службой в чине генерал-лейтенанта, средств к существованию кроме пенсии не имел, а семья у него была немалая.
В Москву Врубель устремился не от обиды на Прахова и не ради товарищества, единения с молодыми силами искусства. И не от нищеты бежал он в Москву, хотя временами в кармане у него было всего пять копеек.
Врубель прибыл в Москву с единственной целью: быть рядом с итальянкой, циркачкой Анной Гаппе.
Эта история уже потому романтическая, что «романа» не существовало. Артистка была верна супругу, и любовь Врубеля выражалась в одном донкихотском преклонении перед дамой, перед Красотою.
Серов и Коровин, кстати, не видели в Анне Гаппе выдающихся достоинств да и красавицей не признали.
13
Костя Коровин и привел Врубеля к Мамонтовым.
У Мамонтовых было светло и людно. Близился Новый год, а Савва Иванович в соавторстве с Сергеем Саввичем сочинил драму «Саул», собирался ее поставить, как в былые радостные времена.
Гости попали за стол, шло чаепитие. Обсуждали литературные достоинства драмы. Врубель взял листок пьесы, прочитал глазами:
Давид.
В пустыне рай земной и, если б не разлука,
Я б мог благословить блаженный свой удел,
Средь дикой красоты мне незнакома скука,
Полет моей мечты стремителен и смел.
Сижу я на скале в блаженном созерцанье,
Рой чудных, светлых грез передо мной встает,
И ум мой ясно зрит красоты мирозданья.
Ионафан.
Беги скорей, Давид, отец сюда идет!
— Что скажете? — спросил Савва Иванович. — Я, разумеется, не о драме, а о качестве стиха?
— Возвышенно.
— Это хула или одобрение? У современной молодежи понятия иные, чем у нас, седеющих и лысеющих.
— Это одобрение, — сказал Врубель. — После Пушкина и Лермонтова русская литература все время катится по наклонной. Первейшее качество поэзии — возвышенность.
— А если эта возвышенность отсутствует в самой жизни?
— Грубости и низости во времена Гомера и Овидия было значительно больше, ибо многие народы жили как дикари, — ответил Врубель и увлекся. — Помните Вергилия? «Снег идет по всему воздуху, гибнут стада, большие туши быков стоят, окруженные снегами, и олени густыми стадами увязают в новых снежных скалах, из которых едва виднеются верхушки их рогов».
Врубель смотрел перед собой, в чашку чая, но голос его, сначала тусклый, словно бы наливался серебром, и его слушали, умолкнув, не дотрагиваясь до чая.
— «Тут на них не натравляют собак, не расставляют сетей, не обращают в бегство, дрожащих от ужаса, пуническими стрелами, но бьют в упор железом, пока они тщетно стараются пробить грудью противостоящие горы снега, убивают тяжко ревущих и весело уносят домой с громкими криками. Сами жители проводят свои безмятежные досуги в вырытых пещерах глубоко под землею, прикатывают к очагам собранные дубы и целые вязы и предают их огню. Здесь они проводят ночи в играх и весело заменяют в чашах вино кумысом и кислым соком рябины. Таково свободное племя, которое под гиперборейской медведицей поражается дуновением рифейского Евра и прикрывается щетинистыми рыжими шкурами животных».