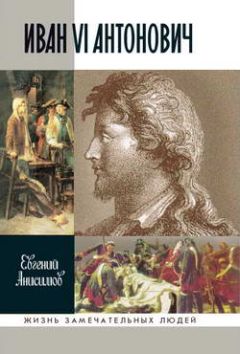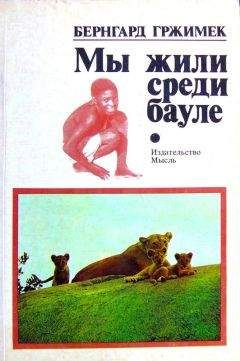По-видимому, появление А. И. Бибикова, человека гуманного и доброго, как и необыкновенно любезные письма новой государыни возбудили в Брауншвейгской семье какие-то смутные надежды если не на свободу, то хотя бы на облегчение тюремного режима. Поэтому в сентябре 1763 года принц осмелился просить у императрицы «чуть более свободы»: разрешить детям посещать службу в стоявшей рядом с тюрьмой церкви. Екатерина ответила отказом, как и на его просьбу дать детям «чуть более свежего воздуха» (их большую часть года держали в здании).[557]
Так и не дождался Антон Ульрих ни немного свободы, ни немного свежего воздуха, ни того, чтобы дела императрицы Екатерины приняли благоприятное для него положение. К шестидесяти годам он одряхлел, стал слепнуть и, просидев в заточении 34 года, скончался 4 мая 1776 года. Умирая, он просил дать его детям «хотя бы малое освобождение».[558] Ночью гроб с его телом охранники тайно вынесли во двор и похоронили там возле церкви, без священника, без обряда, как самоубийцу, бродягу или утопленника. Провожали ли его в последний путь дети? Даже этого мы не знаем. Скорее всего, это разрешено не было – им запрещали выходить из дома. Но известно, что они крайне тяжело перенесли смерть отца и жестоко страдали от печали. В следующем, 1777 году семью ждала другая тяжелая потеря – умерли одна за другой две старушки – кормилицы и няньки принцев Анна Иванова и Анна Ильина. Они давно стали близкими членами семьи, родными людьми.
Принцы и принцессы после смерти отца прожили в заточении еще четыре года. К 1780 году они уже давно были взрослыми: глухой Екатерине шел 39-й год, Елизавете было 37, Петру – 35 и Алексею – 34 года. Все они были слабыми, с явными физическими недостатками, много и подолгу болели. О старшем сыне, Петре, очевидец писал, что «он сложения больного и чахоточного, несколько кривоплеч и кривоног. Меньшой сын Алексей – сложения плотноватого и здорового… имеет припадки». Дочь принца Екатерина «сложения больного и почти чахоточного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно и одержима всегда разными болезненными припадками, нрава очень тихого».
Но, несмотря на жизнь в неволе, все они выросли разумными, добрыми и симпатичными людьми. Все визитеры, приезжавшие к арестантам, вслед за Бибиковым отмечали, что их встречали доброжелательно, что семья принца на редкость дружная. Как писал Головцын, «при первом своем приезде из разговоров я приметить мог, что отец детей своих любит, а дети к нему почтительны и несогласия между ними никакого не видно». Как и Бибиков, Головцын отмечал особую смышленость принцессы Елизаветы, которая, заплакав, сказала, что «единственная их вина – появление на свет» и что она надеется, что, может быть, императрица их освободит и возьмет ко двору.[559]
Побывавший у них уже после смерти Антона Ульриха генерал-губернатор Вологодского наместничества А. П. Мельгунов писал о принцессе Екатерине Антоновне, что, несмотря на ее глухоту, «из обхождения ее видно, что она робка, уклонна, вежлива и стыдлива, нрава тихого и веселого; увидя других в разговорах смеющихся, хотя и не знает причины, но делает им компанию…». С принцессой Елизаветой Мельгунов разговаривал свободно – она была умна и обстоятельна. Когда принцесса заговорила с Мельгуновым о том, что семья посылала раньше просьбы императрице, «я, – писал Мельгунов, – вознамерясь испытать разум ее и расположение мыслей, почел сей случай удобным к тому и для того спросил ее, в чем бы то их прошение состояло? Она мне отвечала, что первая их просьба, когда еще отец был здоров, а они очень молоды, состояла в том, чтоб дана им была вольность, но когда сего не получили и отец их ослеп, а они из молодых своих лет вышли, то сие их желание переменилось на другое, то есть просили уж наконец, чтоб позволено им было проезжаться, но на то ответа не получили». Сказанное принцессой и записанное Мельгуновым точно отражает ситуацию 1760—1770-х годов, когда Екатерина повела себя, в общем, так же как и Елизавета Петровна: на все просьбы – молчание. Все просьбы о свободе или хотя бы об облегчении режима отвергались ею. Екатерина считала, что всё это «хлопот наделать может». А зачем они были ей нужны? Эти люди как бы перестали для нее существовать. Государыня никогда им не писала и даже не посочувствовала, когда они потеряли своего отца. Как и прежде, их строго охраняли и в доме, и во время прогулок на огороде. Но их стали лучше кормить, меньше обворовывать и довольно часто из Петербурга привозили новые красивые вещи. Елизавета говорила Мельгунову, что с началом царствования Екатерины они будто воскресли – «до того времени нуждались во всем, даже и башмаков не имели».
Видно, мечта о свободе не оставляла принцессу Елизавету, и она вновь с горечью говорила Мельгунову об их несбывшемся желании «жить в большом свете», научиться светскому обращению. «Но в теперешнем положении, – продолжала Елизавета Антоновна, – не остается нам ничего больше желать, как только того, чтобы жить здесь в уединении, в Холмогорах. Мы всем довольны, мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и застарели, так для нас большой свет не только не нужен, но и тягостен, для того, что мы не знаем, как с людьми обходиться, а научиться уже поздно».
«Касательно же до братьев, – продолжал Мельгунов свой отчет императрице, – то оба они, по примечанию моему, не имеют, кажется, ни малейшей в себе природной остроты, а больше видна их робость, простота, застенчивость, молчаливость и приемы, одним малым ребятам приличные. Однако ж меньшой из них, Алексей, кажется, что посвязнее, посмелее и осторожнее большего своего брата Петра. Но что лежит до большего, то из поступков его видно, что обитает в нем сущая простота и нраву слишком веселого потому, что смеется и хохочет тогда, когда совсем нет ничего смешного… Живут же между собою дружелюбно, и притом… незлобивы и человеколюбивы, и братья повинуются и слушают во всем Елисаветы. Упражнение их состоит в том, что летом работают в саду, ходят за курами и утками и кормят их, а зимою бегаются взапуски на деревянных лошадях по пруду, в саду их имеющемуся, читают церковные книги и играют в карты и шашки, девицы же, сверх того, занимаются иногда шитьем белья».[560]
У Елизаветы было несколько просьб, от которых у Алексея Петровича Мельгунова, человека тонкого, гуманного и сердечного, вероятно, всё перевернулось в душе: «Просим исходатайствовать нам у Ея императорского величества ту одну милость, чтоб 1) позволено нам было выезжать из дому на луга для прогулки, мы-де слыхали, что есть там цветы, каких в нашем саду нет»; второе – чтобы пускали к ним дружить жен офицеров охраны – «а то-де нам одним бывает скучно!». Третья просьба: «По милости-де Ея императорского величества присылают к нам из Петербурга корнеты, чепчики и токи, но мы их не употребляем для того, что ни мы, ни девки наши не знают, как их надевать и носить. Так сделайте милость… пришлите такого человека, который бы мог нас в них наряжать». Еще принцесса попросила, чтобы баню перенесли подальше от дома и повысили жалованье их служителям и разрешили им выходить из дому. В конце этого разговора с Мельгуновым Елизавета сказала, что если выполнят эти просьбы, «то мы весьма будем довольны и ни о чем более утруждать не будем и ничего не желаем и рады остаться в таком положении навек».