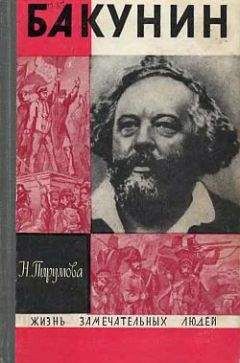Те, что ждали на Капрарской равнине, не получив ни подкрепления, ни сигнала к восстанию, к утру разошлись.
Болонский префект граф Капитэлли, узнав о событиях лишь ночью, приказал запереть все городские ворота и произвести до сотни арестов.
Бакунин, надеясь на возможность возглавить восставших в уличных боях, напрасно ждал сообщения о начале сражения.
Вот что он записывал в своем дневнике. «Неудача.
Страшная ночь с 7-го на 8-ое [августа]. Револьвера Смерть под рукой. Приходят один за другим Л., Сильвио, Берарди, Нья… Остался один с 3 до 4. В 4 смерть… В 3 ч. 40 м. утра является Сильвио и не дает мне умереть».[538]
Через несколько дней в костюме деревенского священника, в больших очках, с палкой и для пущей конспирации с корзиной, полной яиц, в руках, он покинул Болонью.
Приехав в Шплюген, Бакунин телеграфировал в «Баронату» и стал ждать Кафиеро для решения вопроса о дальнейших революционных акциях. Однако ожидания его были напрасны, вместо Кафиеро явился Росс, передавший, что в Италии делать больше нечего.
Запись Бакунина в дневнике 21 августа: «Приезжает Росс, остервенелый и фальшивый как каналья. Натта после обеда уезжает в Локарно. Я остаюсь наедине с г-ном Россом. 22-го суббота. Росс крайне раздосадован. Он уезжает после обеда. Я снова один».[539]
Бакунин продолжает настаивать на личном свидании с Кафиеро. Тот, наконец, соглашается и назначает местом встречи Сиерру. По пути он заезжает в Невшатель, встречается с Гильомом и по-своему информирует его о конфликте с Бакуниным.
Гильом пишет: «Мы: Швицгебель и я, объявили Кафиеро и Росса правыми; приходилось признать, что Бакунин уже не тот человек, каким он был прежде, и, что, говоря о своей старости, усталости, разочаровании и утомлении, он высказал печальную истину».
Встреча с Кафиеро состоялась 30 августа. Разговор, по словам Бакунина, «был чисто политический», обе стороны были «холодны как лед». «Я заявил им, что… принял бесповоротное решение окончательно удалиться от политической жизни и деятельности, как явной, так и тайной, и отдаться исключительно семейной жизни и личным делам… Отклонив, как и следовало, предложенную мне пенсию, попросил у него заимообразно пять тысяч франков с уплатой в два года и из 6 %. Он весьма любезно согласился на это».
На этот раз отказ от деятельности был искренним и полным. И не интриги друзей, не болезни и безденежье были тому причиной. Он просто потерял веру в необходимость тех форм революционной деятельности, которым посвятил всю жизнь. Ставка на близкую социальную революцию обусловливалась уверенностью в готовности народа к революции. Но уже весной 1874 года он понял, что «в данное время народные массы не хотят социализма».[540] Еще несколько месяцев он продолжал в силу инерции, в силу временных иллюзий и, наконец, в силу обстоятельств действовать в прежнем направлении, но теперь, после болонской попытки, после последнего разрыва с соратниками и фактического отстранения его от революционных дел, не было более нужды «катить Сизифов камень против всюду торжествующей реакции».
Перестал ли он быть революционером? Нет.
По-прежнему единственный путь освобождения народа видел он в социальной революции. Здравая же оценка положения дел в Европе, убеждение в неготовности народа к осуществлению идеала анархии свидетельствовали лишь о большом мужестве человека, сумевшего накануне смерти сжечь те идолы, которым он поклонялся всю жизнь.
Моральным категориям, никогда, впрочем, и ранее не отвергавшимся им, придавал он теперь первостепенное значение. «Пойми же ты наконец», — писал он Россу 21 октября 1874 года, — что «на иезуитском мошенничестве ничего живого, крепкого не построишь, что революционная деятельность, ради самого успеха своего дела, должна искать опоры не в подлых и низких страстях и что без высшего, разумеется, человеческого идеала никакая революция не восторжествует».[541]
Поселившись теперь в Лугано, в ноябре 1874 года Бакунин писал уехавшему жить в Лондон Огареву: «Я также, мой старый друг, удалился, и на этот раз удалился решительно и окончательно, от всякой практической деятельности, от всякой связи для практических предприятий. Во-первых, потому, что настоящее время для таких предприятий решительно неудобно; бисмаркианизм, т. е. военщина, полиция и финансовая монополия, совокупленные в одну систему, носящую имя новейшего государства, торжествуют повсюду… Не говори, чтобы в настоящее время нечего было делать; но это новое дело требует нового метода, а главное — свежих молодых сил, и я чувствую, что я для новой борьбы не гожусь, а потому и подал в отставку… Здоровье мое становится все плоше и плоше, так что к новым революционным попыткам и передрягам я стал решительно не способен».[542]
Еще более определенно высказал свое настроение Бакунин год спустя, в письме к Элизе Реклю 15 февраля 1875 года. Он писал: «Я согласен с тобою, что время революции прошло не по причине ужасных катастроф, свидетелями которых мы были, и страшных поражений, жертвами которых мы оказались, но потому, что я, к моему великому отчаянию, констатировал и каждый день снова констатирую, что в массах решительно нет революционной мысли, надежды и страсти, а когда их нет, то можно хлопотать сколько угодно, а толку никакого не будет… Я окончательно отказался от борьбы и проведу остаток дней моих в созерцании — не праздном, а, напротив, умственно очень действенном, которое, как я надеюсь, даст что-нибудь полезное.
Одна из страстей, владеющих мной в данное время, это колоссальная любознательность. Раз вынужденный признать, что зло восторжествовало и что я не в силах помешать этому, я принялся изучать его эволюцию и развитие с почти научною, совершенно объективною страстью».[543]
Замечательная формулировка: «объективная страсть»! Даже и теперь этот неуемный человек, в столь многом разуверившийся, не мог быть бесстрастным.
Бакунин много читал в эти последние годы. Его настольными книгами, судя по его словам из письма к Огареву, были: «Автобиография Джона Стюарта Милля», «История человеческой культуры» Кольба и сочинения Шопенгауэра.
Вся комната его была завалена газетами всех политических направлений. Он поддерживал переписку теперь лишь с некоторыми друзьями, пытался писать свои мемуары и вторую часть книги «Государственность и анархия».[544]
Попытался он на этот раз действительно наладить какой-либо прочный быт для семьи. В надежде на получение своей части наследства из России, куда поехала для оформления дел сестра Антонины Софья Лозовская, он в долг приобрел в Лугано виллу с участком земли, на котором решил завести огород. На это неожиданное увлечение ушел целый год. Прочтя много сельскохозяйственной литературы, он решил все делать на научной основе. Для начала были вырублены все деревья и выкопано множество ям, в которые предполагалось насыпать удобрения. Посещавшая его в это время А. В. Баулер рассказывает, как Михаил Александрович решил сеять огурцы и непременно укроп. Жена его возражала, уверяя, и не без оснований, что в этом саду никогда ничего, кроме ям, не будет.