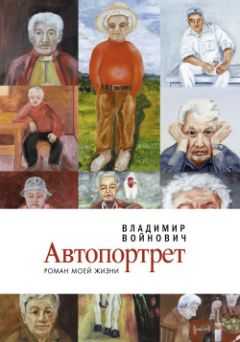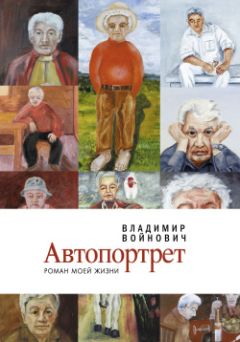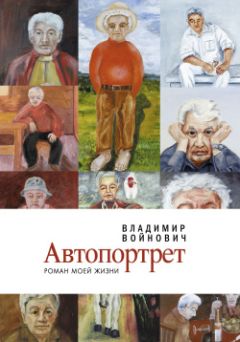— А шо це таке?
Председатель сказал:
— Вот, студент придумал, — и показал с гордостью на меня.
Я тоже несколько возгордился и приосанился, ожидая, что мне скажут чтото приятное.
— Гмм! Гмм! Гм! — произнес, обдумывая увиденное, секретарь. И снова обратился к председателю: — И шо ж вы, значит, усе принимаете, шо вам тут студенты придумают?
Председатель не оробел и стал защищать новый метод, объясняя его очевидной экономической выгодой.
— Та яка там выгода, — замахал руками секретарь, — ниякой тут выгоды немае. Ты подывысь, шо робытся. Трактор ото ж усю кучу разом стягуе, и рессоры разгинаются резко. Ты знаешь, шо такое остаточная деформация? Это кода шонибудь сгинаетсяразгинается, а потом перестает разгинаться. А шо до рессор, то они вовсе сломаются. Так шо это все, шо студент придумал, отставить!
Так было погублено мое изобретение, и мы вернулись к мучительному ковырянию силоса вилами…
Советская власть отличалась большой заботой о морали, которую как угодно мог толковать кто угодно и портить жизнь всем имевшим о предмете иные представления. Согласно советской морали нельзя было носить джинсы, пить кокаколу, любить джаз, танцевать твист или брейк. Власть высшая и на местах вводила ограничения на длину волос и ширину брюк. Длинноволосых, бывало, приводили в милицию и насильно стригли. Узкие брюки распарывали прямо на улице. Во флоте, наоборот, — распарывали широкие брюки. Известного детского писателя Геннадия Снегирева тащили в кутузку потому, что в своей красной рубахе он казался милиционерам одетым вызывающе.
Местные моралисты вводили дополнительные нормы и карательные меры. На юге летом женщинам запрещали ходить в сарафанах. Мужчинам в шортах. В шестьдесят какомто году я видел на керченском пляже объявление: «Находиться на пляже в плавках строго запрещено!» Имелось в виду, что в плавках купаться можно, но загорать разрешается только в длинных «семейных» трусах.
Еще по дороге на целину на свердловском вокзале Иру и Нину местные дружинники схватили за то, что они были, по мнению дружинников, неприлично одеты — в лыжных костюмах, но без юбок поверх шаровар. В милиции их стыдили, угрожали разными наказаниями, составили протокол. Пока девушки сидели в КПЗ, эшелон ушел. Потом наш медленный поезд они догоняли на скором. Но еще скорей догнала его «телега», требовавшая осудить девушек за аморальное поведение. И их осудили. На очередной остановке уже известная читателю Черная пропаганда вывела весь вагон наружу и объявила нарушительницам морали выговор с предупреждением, что если они не исправятся, то будут лишены комсомольских путевок и отправлены до срока в Москву. Они бы с удовольствием и вернулись, но быть лишенными путевок и возвращенными значило к тому же быть неизбежно исключенными из института.
В Поповке, селе, где мы «бились за казахстанский миллиард», у меня в самом начале случилось большое столкновение с маленьким самодуром. Дождливым днем, когда о работе не могло быть и речи, мы играли в «подкидного дурака», как вдруг вошел завклубом Бородавка. Увидел карты, пришел в ужас: какой разврат!
Не сомневаясь в своем праве применять к студентам воспитательные меры по своему усмотрению, схватил карты и пошел к выходу. Я его догнал и потребовал вернуть чужое. Он отказался. Я содрал с него кепку и сказал, что не отдам ее, пока он не вернет карты. Поднялся скандал. Дело было изображено так, что завклубом предотвратил развратные действия студентов, а я совершил хулиганский поступок. Пришла тихая, не уверенная в себе наша преподавательница Анна Федоровна. Просила отдать кепку. Я сказал, что отдам только в обмен на карты. Она пыталась оправдать Бородавку, говоря, что азартные игры в СССР запрещены. Я спросил, относится ли «подкидной» к азартным играм. Она ответила, что «подкидной» не относится, но в карты можно играть и на деньги. Я сказал, что на деньги можно играть даже в крестикинолики. Преподавательница была со мной согласна, но советовала быть благоразумным. Благоразумным я тогда не оказался (и позже был не всегда), и дело дошло до командовавшей нами из райцентра Атбасара Черной пропаганды, имя которой студенты сократили до аббревиатуры ЧП. ЧП распорядилась, чтобы я явился к ней, имея при себе комсомольскую путевку.
На попутной машине я добрался до Атбасара и пришел к ЧП в Дом колхозника. Поднялся на второй этаж, постучался в номер. Она приоткрыла дверь полуодетая. Хоть она и пыталась прикрыть щель собою, на столе посреди комнаты я заметил следы ночной попойки. Это меня обрадовало. Об атбасарских похождениях ЧП я коечто слышал и раньше, а теперь понял, что на ее обвинения надо отвечать, как позднее сформулировал известный политический деятель, асимметрично.
— Подождите меня в коридоре, я сейчас выйду, — сказала ЧП.
Я отошел в конец коридора и сел за столик дежурной, которой на месте не было. Через несколько минут вышла в коридор и ЧП. В обычном своем черном одеянии, но с белой шелковой косынкой, повязанной вокруг шеи. Я уступил ей место за столиком.
Она начала резко:
— Дайтека мне вашу путевку!
Я дал.
— Я ее изымаю, а вас отстраняю от работы. Отправляйтесь в Москву.
— На чем? — спросил я.
— На чем хотите.
— Но у меня нет ни билета, ни денег.
— А меня это не интересует.
— Как не интересует? Как я доеду до Москвы?
— А мне все равно. Идите пешком.
— Но чем я провинился?
— А вы не знаете?
— Не знаю.
— Тем, что ведете себя безобразно. Безнравственно. Аморально.
Она собиралась продолжить свою тираду, но я ее перебил:
— Вы платочек на шее поправьте, а то засос слишком виден.
— Что?! — оторопела она.
— Засос, — повторил я. — Синяк от поцелуя. Лилового цвета. И перегаром от вас несет, как из бочки. Надо мускатный орех жевать. Помогает.
Она растерялась и не знала, как на мои слова реагировать. Стала бормотать чтото вроде:
— Какой орех? Что вы говорите?
— Говорю, что вам насчет морали надо помалкивать, — сказал я и повысил голос: — Сама тут переспала со всем райкомом и райисполкомом, оргии устраивает…
Какойто человек в шляпе, выйдя из своего номера, приближался к нам.
— Тише! — прошептала она не то приказным, не то умоляющим тоном.
— А что — тише? Мне скрывать нечего.
Человек покосился на нас обоих и стал спускаться по лестнице.
ЧП, не глядя на меня, бормотала чтото невнятное. А я, продолжая наступление, пообещал ей то, чем угрожал когда-то кадровичке на стройке: что приеду в Москву, напишу заявление ректору. И в «Правду» напишу фельетон.