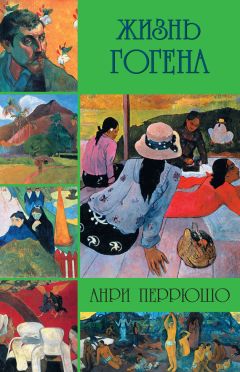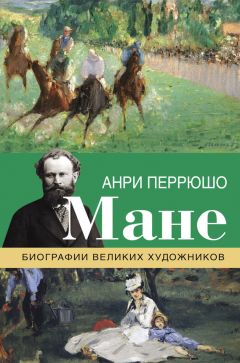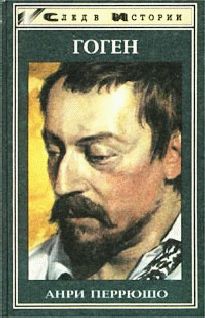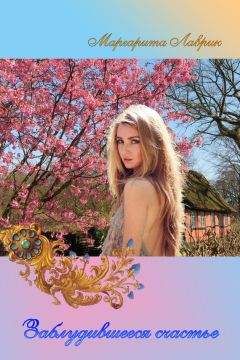Гоген не разделял мнение жюри о Мане. Мане был художником, которого в эту пору своей жизни он считал, пожалуй, наиболее интересным. Он внимательно изучал его картины.
Гоген продвигался вслепую. Целый мир форм, красок, чувств бушевал в нем, а он не мог его уловить. Зыбкий мир, таинственный, как туманности, в которых нарождаются еще не оформившиеся мириады звезд, чья молочная расплывчатая масса переливается в пространстве. Этот мир давил на него. Под влиянием Мане Гоген писал картину за картиной, в частности натюрморты. Посвящая живописи все свободное время, он ощупью, неуверенно искал свою дорогу. Принадлежа к породе бессонных душ, он часто за полночь бился над каким-нибудь начатым этюдом и отрывался от него против воли с тяжелым, гнетущим чувством недовольства собой.
Эта ночная работа совершенно не отражалась на профессиональной жизни Гогена. Каждое утро с безукоризненной точностью Гоген отправлялся к зданию на улице Лаффит, где на третьем этаже находилась контора маклера – нового маклера Галишона, которому Бертен передал свое дело. Так же тщательно и методично, как прежде, Гоген выполнял свою работу, заполняя приказы и бордеро[34] своим четким, округлым, без завитушек почерком. Под его пером то и дело возникали названия далеких стран. Названия, перед обаянием которых не могли устоять многие биржевые спекулянты. Люди белой расы покрывали всю планету своими предприятиями, иногда совершенно дутыми, вроде пресловутых калифорнийских золотых приисков, которые за четверть века вызвали к жизни три, а то и четыре сотни финансовых обществ с многообещающими названиями и разоряли вкладчиков, плененных химерами. Биржа тоже была своего рода мечтой.
Потом наступал вечер. На первом этаже здания, где служил Гоген и которое одним своим фасадом выходило на Итальянский бульвар, знаменитый ресторан «Мэзон Доре» уже сверкал всеми своими огнями. Для Гогена начиналась его «ночная жизнь».
Выйдя от Галишона, биржевик шел в картинные галереи. Совсем близко, на улице Ле Пелетье, открылась галерея торговца Дюран-Рюэля, где весной описываемого нами 1876 года состоялась вторая выставка группы художников, которых теперь называли «импрессионистами». Среди них был Камиль Писсарро, о котором Гоген часто слышал от братьев Ароза. У Гюстава и Ашиля было не меньше восьми картин этого художника, который, несмотря на свой талант, упорный труд и долгую борьбу (Писсарро уже исполнилось сорок шесть лет), продолжал бедствовать. Если ему встречался любитель, готовый уплатить за картину сто франков, Писсарро без колебаний расставался со своим полотном.
Гогену случилось несколько раз заговорить с Писсарро у Дюран-Рюэля, а может быть, и у одного из братьев Ароза – этого было довольно, чтобы Гоген привязался к Писсарро.
Биржевик сразу оценил, как глубоки, обдуманны и выношены суждения этого художника, который был значительно старше Гогена и которому так не повезло. В Писсарро с его пушистой белой бородой и почти голым черепом было что-то от библейского патриарха (по происхождению он был еврей). Увлеченный проблемами техники и различными теориями, не только художественными, но и политическими (Писсарро увлекался социализмом), художник любил делиться с другими своими знаниями, опытом, внушать им свои убеждения. В нем жила глубокая внутренняя потребность в педагогической деятельности. На редкость терпеливый, не склонный к безапелляционности и совершенно лишенный чувства превосходства, он обладал величайшим достоинством педагога по призванию умением ясно излагать свои мысли. Гоген слушал его со страстным интересом. Ему казалось, что Писсарро внезапно осветил ему путь – он почувствовал, что с его плеч упал тяжелый груз.
Писсарро был учеником Коро, потом его увлек Курбе и, наконец, Мане. Он входил в ту самую «банду Мане», которая сложилась после скандала с «Олимпией» в 1865 году и собиралась в кафе «Гербуа», на бульваре Батиньоль. Это кафе стало колыбелью импрессионизма. Писсарро ближе познакомил Гогена с живописью художников-новаторов, которые решительно отказались от приемов академической школы и которых пресса поливала грязью, – это были Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Берта Моризо… Писсарро учил биржевика тому, чему до него учил уже других художников. Убежденный сторонник «светлой» палитры, он повторял Гогену, как прежде Сезанну, в жизни которого сыграл огромную роль, что писать надо только «тремя основными цветами[35] и их непосредственными производными».
Камиль Писсарро. Автопортрет.
И Гоген без колебаний пошел на выучку к Писсарро. Он приглашал Писсарро к себе, расспрашивал его, показывал ему свои наброски, прислушивался к его замечаниям и советам.
Метте была в восторге от этого нового знакомства. В самом деле, ее муж не часто «приглашал кого-нибудь в гости»[36]. К тому же Писсарро прекрасно действовал на Гогена: в присутствии художника от угрюмости биржевика не оставалось и следа.
Вдобавок оказалось, что хотя семья Писсарро происходила из Португалии, сам он родился на Антильских островах, на принадлежащем Дании острове Сент-Томас, и таким образом был почти соотечественником Метте. И первым его учителем был датский художник Фриц Мельбюэ. Метте обрадовали все эти совпадения, и она сразу почувствовала себя с Писсарро накоротке.
Вместе с Фрицом Мельбюэ и совершил Писсарро в двадцать два года побег из родного дома, определивший его судьбу. Отец Писсарро, владевший на Сент-Томасе скобяной лавкой, несомненно, предназначал сына к коммерческой деятельности. Но юноша думал только о живописи. Еще ребенком Писсарро все время рисовал. Эта склонность углубилась в годы учения в парижском пансионе в Пасси, директор которого уговаривал Писсарро совершенствовать свое дарование. «Главное побольше рисуйте кокосовые пальмы», – советовал он молодому человеку, когда тому пришла пора возвращаться на Антильские острова. Писсарро служил в скобяной лавке отца, когда он познакомился с Мельбюэ, который предложил ему поехать с ним в Каракас, и – рассказывал Писсарро, – «я без раздумий бросил все». Три года спустя он снова поехал в Париж, на сей раз чтобы изучать там живопись… Хотя ни Гоген, ни Писсарро не задумывались над этим, сын скобяного торговца с острова Сент-Томас учил потомка семьи Тристан Москосо не одним только принципам импрессионистической живописи. Сам того не желая, он подал ему пример жизни, целиком и полностью отданной служению искусству. Искусство не терпит половинчатости. «Я бросил все» – эти три слова сыграли в жизни Гогена роль фермента.
Гоген иногда встречался с Писсарро в кафе «Новые Афины», куда, покинув кафе «Гербуа», перебралась «банда Мане», пополнившаяся новыми членами. Многочисленные участники выставок импрессионистов, их друзья, критики, кое-кто из писателей приходили сюда поболтать в круглом зале, расположенном в глубине кафе и называвшемся «Сенакль».
Биржевик больше не посылал в Салон ни одной своей работы. Он примкнул к непокорным. Можно было заранее сказать, что когда придется выбирать между гонимыми, непризнаваемыми импрессионистами и академиками, милыми сердцу добряка Шуффа, Гоген изберет первых. Импрессионисты с их главой Мане – главой неблагодарным, потому что, мечтая об официальном успехе, он отрекался от своих последователей, хотя любил их и помогал им, представляли собой единственное жизнеспособное течение современной живописи. Слова Писсарро были для Гогена откровением, но к этому откровению его подготовило все – начиная от волнения, которое он впервые почувствовал перед картинами из коллекции Ароза, и кончая влиянием Коро, а потом Мане, которое он сознательно воспринял 31.
Поль Гоген. Автопортрет с Камилем Писсарро.
Однако Гоген по-разному оценивал произведения импрессионистов, которые составляли куда менее однородную группу, чем это рисовалось насмешникам-профанам. Игра света в небесах и на воде, пробивающегося сквозь дымку испарений или сквозь листву, его переливы, тени и отражения, которые с увлечением передавали Моне, Ренуар, Сислей (Моне в это время писал серию картин под стеклянным куполом вокзала Сен-Лазар, Ренуар только что окончил «Бал в Мулен де ла Галетт», Сислей – «Наводнение в Пор-Марли»), не слишком привлекали Гогена. Эти картины были слишком радужны и воздушны, чтобы всерьез тронуть его. Подобное искусство так же мало отвечало его созерцательной натуре, как некоторые излюбленные сюжеты импрессионистов все эти полотна, где нарядные краски запечатлевали веселье воскресных народных гуляний, пригородные ресторанчики, гребцов – мужчин и женщин, скользящих в лодках по Сене, переливающейся в солнечных лучах, сады с влюбленными парочками, где в гуще зелени расцветают великолепные цветы. Гогена куда больше привлекали сельские пейзажи Писсарро, написанные в тонах более сдержанных, глухих, менее блистательные, но передававшие значительность людей и явлений, связанных с землей. Биржевик, чьи предки в общем-то еще недавно крестьянствовали в Гатине – да и разве не от крестьян унаследовал Гоген свою тяжеловесную медлительность, свою привычку все обдумывать не торопясь? – биржевик в цилиндре ни разу так и не написал ни одну из миловидных парижанок, которые, прогуливаясь под зонтиком в платьях с турнюрами, пленяли взоры многих художников, собиравшихся в кафе «Новые Афины».