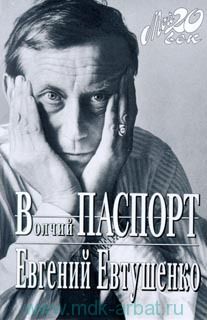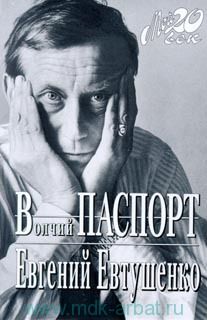Мы тоже перешагивали через тех, кого любили, чтобы сделать то, чего не смогли сделать они. Но мы не наступали на них.
Больно ошибиться в доверии к людям.
Но не дай Бог ошибиться в недоверии, как ошибся в недоверии ко мне Исаак Борисович Пирятинский.
Мы происходим не только из прошлого.
Мы происходим из происходящего.
Мы происходим не только из предков, но из нас самих тоже.
Мы происходим из наших надежд, заблуждений, разочарований и снова надежд.
Наше происхождение продолжается.
Преждевременная автобиография (Фрагменты)
Автобиография поэта — это его стихи. Все остальное — лишь примечания к автобиографии. Поэт только тогда является поэтом, когда он весь как на ладони перед читателем со всеми своими чувствами, мыслями, поступками.
Для того чтобы иметь право беспощадно правдиво писать о других, поэт должен беспощадно правдиво писать и о себе. Раздвоение личности поэта — на реальную и поэтическую — неминуемо ведет к творческому самоубийству.
Когда жизнь Артюра Рембо, ставшего работорговцем, пошла наперекор его ранним поэтическим идеалам, он перестал писать стихи. Но это был еще честный выход.
К сожалению, многие поэты, когда их жизнь начинает идти вразрез с поэзией, продолжают писать, изображая себя не такими, какие они есть на самом деле.
Но им только кажется, что они пишут стихи.
Поэзию не обманешь.
И поэзия покидает их.
(Впервые была напечатана в западногерманском журнале «Штерн» в 1962 г. На русском языке опубликована в «Неделе» в 1989 г.)
Поэзия — женщина мстительная: она не прощает неправды.
Но она не прощает и неполной правды. Есть люди, которые гордятся тем, что они не сказали за всю свою жизнь ни слова неправды. Но пусть каждый из них спросит себя — сколько раз он не сказал правды, предпочитая удобное для себя молчание.
…Умолчание о самом себе в поэзии неизбежно переходит в умалчивание о всех других людях, о их страданиях, о их горестях.
Многие советские поэты в течение долгого времени не писали о собственных раздумьях, собственных сложностях и противоречиях — и, естественно, о сложностях и противоречиях людей. Я уже не говорю о пролеткультовском «мы», которое барабанно грохотало со всех страниц, заглушая тонкие и неповторимые мелодии человеческих индивидуальностей. Но и многие стихи, написанные после распада «Пролеткульта» от первого лица единственного числа, все-таки продолжали носить на себе отпечаток этого гигантски-бутафорского «мы». Поэтическое «я» становилось чисто номинальным. Даже простое «Я люблю» бывало иногда настолько неконкретным, настолько декларативным, что звучало, как «Мы любим».
Именно в это время и был выдвинут нашей критикой термин «лирический герой». По рецепту этой критики поэт должен был быть не самим собой в своих стихах, а неким символом.
Внешне стихи многих поэтов были автобиографичны. Там присутствовали и наименование места, где родился автор, и перечень городов, где он побывал, и некоторые события его жизни.
И все-таки эти стихи были бесплотны. Некоторых наиболее талантливых их авторов можно было различить по манере письма. Но по манере мышления различить их было довольно-таки трудно.
Авторы их не ощущались как живые, реально существующие люди, ибо все реально существующие люди мыслят и чувствуют неповторимо.
Внешняя автобиография ничего не означает без автобиографии внутренней: автобиографии чувств и мыслей.
Творчество настоящего поэта — не только движущийся, дышащий, звучащий портрет времени, но и автопортрет, написанный так же объемно и экспрессивно.
То, против чего я борюсь, — ненавистно многим людям.
То, за что я борюсь, — дорого тоже многим.
Есть люди, которые вносят в общество свои личные идеи и вооружают этими идеями общество. Это, наверно, высшая ступень творчества. Я не принадлежу к таким людям.
Моя поэзия — лишь выражение тех новых настроений и идей, которые уже присутствовали в нашем обществе и которые только не были поэтически выражены. Не будь меня — их бы выразил кто-то другой.
Не противоречу ли я своим предыдущим словам о том, что поэт — это прежде всего индивидуальность?
Нисколько.
На мой взгляд, только в резко очерченной индивидуальности может соединиться и сплавиться воедино что-то общее для многих людей.
Мне бы очень хотелось всю жизнь выражать еще не высказанные идеи других людей, но в то же время оставаться самим собой. Да, впрочем, если я не буду самим собой, я не смогу их выразить.
…Я ходил вместе с мамой и отцом на демонстрации и просил отца приподнять меня повыше.
Я хотел увидеть Сталина.
И когда, вознесенный в отцовских руках над толпой, я махал красным флажком, то мне казалось, что Сталин тоже видит меня.
И я страшно завидовал тем моим ровесникам, которым выпала честь подносить букеты цветов Сталину и которых он ласково гладил по головам, улыбаясь в свои знаменитые усы своей знаменитой улыбкой.
Объяснять культ личности Сталина лишь насильственным навязыванием — по меньшей мере примитивно. Без сомнения, Сталин обладал гипнотическим обаянием.
Многие большевики, арестованные в то время, отказывались верить, что это произошло с его ведома, а иногда даже по его личному указанию. Они писали ему письма. Некоторые из них после пыток выводили своей кровью на стенах тюремных камер «Да здравствует Сталин».
Понимал ли народ, что на самом деле происходило?
Я думаю, что в широких массах — нет. Он кое-что инстинктивно чувствовал, но не хотел верить тому, что подсказывало его сердце. Это было бы слишком страшно.
Народ предпочитал не анализировать, а работать. С невиданным в истории героическим упорством он воздвигал электростанцию за электростанцией, фабрику за фабрикой. Он ожесточенно работал, заглушая грохотом станков, тракторов, бульдозеров стоны, доносящиеся из-за колючей проволоки сибирских концлагерей.
Но все-таки совсем не думать было невозможно.
Надвигалась самая страшная опасность в истории каждого народа — несоответствие между жизнью внешней и внутренней.
Это было заметно и нам, детям. Нас тщательно оберегали родители от понимания этого несоответствия, но тем самым еще больше подчеркивали его.
Мои отец и мать познакомились в геологоразведочном институте, где они вместе учились. Это были двадцатые годы.
Тогда в высшие учебные заведения принимались в основном дети рабочих и крестьян. Это было совершенно естественной реакцией на то, что в годы царизма получали образование в основном дети обеспеченных родителей. Справедливость восстанавливалась. Но, как часто бывает, при слишком горячем восстановлении справедливости допускается новая несправедливость.
На русском языке это получило четкое и образное определение «перегиб».
При перегибе в системе приема дети интеллигентов выглядели в высших учебных заведениях белыми воронами. Это случилось и с моим отцом.
Однажды на комсомольском собрании в институте его обвинили в буржуазных настроениях за то, что он… носил галстук.
(Отец, улыбаясь, рассказал мне это, когда мы с ним безуспешно пытались пройти вечером в один московский ресторан — безуспешно, потому что на нас не было галстуков.)
Однако галстук отца не помешал ему подружиться с худенькой девушкой, которая из революционной принципиальности носила мужскую красную косоворотку и сапоги, — моей матерью. Вскоре они поженились.
Моя мать, родившаяся в Сибири, не была такой начитанной, как отец, но она зато хорошо знала, что такое земля и что такое! труд.
И я благодарен отцу за то, что он привил мне с детства любовь к книгам, а матери за то, что она привила мне любовь к земле и труду. Наверно, до конца моей жизни я буду ощущать себя полу-интеллигентом-полукрестьянином.
Я знаю, что первое обстоятельство, может быть, ограничивает меня, но зато я уверен, что второе всегда спасает меня от недостойной формы интеллигентности — снобизма.
Как я уже сказал выше, отец мой был человеком начитанным. Это относилось и к истории. Огец мог часами рассказывать мне, еще совсем несмышленому ребенку, и о падении Вавилона, и об испанской инквизиции, и о войне Алой и Белой розы, и о Вильгельме Оранском…
Отец читал мне много и стихов наизусть — у него была потрясающая память! Особенно он любил Лермонтова, Гёте, Эдгара По, Киплинга. «Завещание сыну» Киплинга он читал мне так проникновенно, как могут читать только свои собственные стихи. Отец и сам писал стихи. Без сомнения, он обладал подлинным дарованием.
Четыре строчки, написанные им в четырнадцать лет, до сих пор поражают меня своей отточенностью:
…Отстреливаясь от тоски,
Я убежать хотел куда-то,
Но звезды слишком высоки И высока за звезды плата.