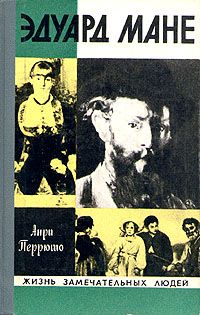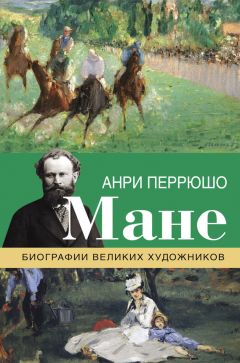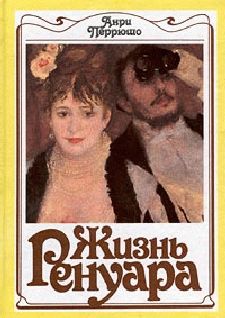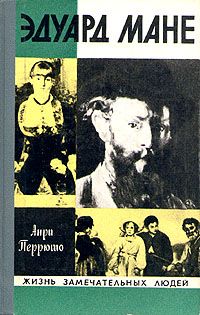В Париже установлен порядок, теперь можно подсчитать и опознать убитых. Неизвестные жертвы свезены на кладбище Монмартр. Туда отправляются все ученики Кутюра. По шатким, качающимся доскам, брошенным у ног мертвецов, Мане и его товарищи идут мимо пяти или шести сотен трупов, уложенных рядами и «сверху прикрытых соломой»50, так, чтобы видны были одни головы. Чудовищное зрелище. Низкие декабрьские тучи нависают над кладбищем. Временами слышны душераздирающие крики тех, кто узнает друга, родственника, брата, отца. Охваченный ужасом, Мане быстро набрасывает рисунок...
Извещенная о беременности дочери мать Сюзанны приезжает в Париж из Голландии. Тайные совещания. В первую очередь надо соблюсти приличия – позаботиться о репутации Сюзанны и предупредить возможные подозрения со стороны г-на Мане, пресечь какие бы то ни было бестактные расследования, которые может предпринять судья. Об этом пекутся всячески. Ребенок – мальчик – появился на свет 29 января 1852 года. Мане ограничивается тем, что дает ему свое имя; на месте отца фигурирует мнимый Коэлла – в акте гражданского состояния ребенка называют «Коэлла, Леон-Эдуард, сын Коэлла и Сюзанны Ленхоф».
Так выглядят официальные бумаги. Сюзанна признала свое материнство только в мэрии; но распространять будут версию иную. Впредь о младенце будут говорить не как о сыне Сюзанны, но как о ее брате, последнем ребенке мадам Ленхоф, имеющей четырех детей, из которых двое – Фердинанд десяти лет и Рудольф – семи – сейчас маленькие. Отныне Леон-Эдуард Коэлла станет для всех Леоном-Эдуардом Ленхофом.
Приходится переезжать. Обе женщины поселятся в квартале Батиньоль, на улице С.-Луи51. С этого момента именно здесь, а не в доме отца находится домашний очаг Мане. В часы, свободные от работы, он ведет там жизнь «почти супружескую»52.
Постепенно в парижских мастерских за Мане закрепляется определенная репутация, его имя окружает своеобразный ореол. «Слыхали, – все чаще и чаще поговаривают теперь, – у Кутюра есть какой-то Мане; пишет он здорово, но вот только не ладит с натурщиками».
Мане хватило ненадолго. Чуть гроза миновала, и он снова верен себе – насмешничает, шутит, и довольно жестоко. Препирательства с натурщиками возобновляются.
Но не со всеми. Красавица Нина Фэйо его волнует. Легкой, трепещущей кистью он делает с нее несколько быстрых этюдов, где передает то, что радует его взгляд и его чувства.
Такие вполне индивидуальные по манере этюды должны были наверняка получить неодобрительные замечания Кутюра. Вольности, с помощью которых самоутверждается Мане, вызывают у учителя самое резкое неприятие. Чуть что – и он его жестко отчитывает. Он нюхом чует, более того, он почти уверен – у этого Мане темперамент подлинного живописца, но это ему нравится и не нравится в одно и то же время. С посредственностями куда как спокойнее! Хоть бы этот неслух овладел азбукой того, чему он, Кутюр, его учит! Но нет, Кутюр видит, что юноша строптив, и ничего ему не прощает, пи малейшего огреха. «Я не желаю, чтобы говорили, будто из моей мастерской выходят невежды и сапожники».
Отношения натянуты, и было бы странно утверждать, что Мане пытается их как-то разрядить. В мастерской вокруг него образуется кружок. То, что его слушают, обсуждают его поступки, льстят, еще больше побуждает его следовать собственным склонностям.
Весной 1853 года Кутюр предлагает своим ученикам отдохнуть – отправиться в пешеходное путешествие с мешком за плечами вдоль нормандского побережья. Выйдут из местечка Сент-Адресс, останавливаться будут где пожелают; каждый станет изучать природу, море, пляжи и писать так, как ему нравится. Заманчивый проект. Увы! Прогулка, которая могла бы стать удобнейшим предлогом для сближения между Мане и Кутюром, напротив, усугубляет их разногласия. Буквально все становится у них поводом для споров. В дружеской обстановке, к какой располагает такое путешествие, Кутюр лишний раз убедился, как влияет Мане на своих товарищей, поэтому и загрустил.
Кутюр с учениками возвращается в Париж. В первую неделю им позирует женщина, натурщица Рыжая Мари. Мане с таким блеском написал с нее этюд, что ему устроили овацию. На этот раз Кутюру придется признать себя побежденным. В ожидании его прихода холст устанавливают поближе к свету, а мольберт украшают цветами.
Появляется Кутюр. Он увидел полотно еще с порога, но сделал вид, что его не заметил.
Прежде чем подойти к работе Мане, он выправил этюды всех учеников. Наконец, остановившись перед украшенным цветами мольбертом, надменно заявил: «Вы никогда не научитесь делать то, что видите!» Мане вздрагивает. Он в ярости. «Я делаю то, что вижу, а не то, что нравится видеть другим, – резко парирует он. – Я делаю то, что есть, а не то, чего нет». – «Что ж, мой друг, – цедит Кутюр, – если вы намерены быть главой школы, отправляйтесь создавать ее в другое место».
Мане исчезает.
Назавтра еще один инцидент. Г-н Мане пригласил в тот день к обеду некоторых сослуживцев по Дворцу правосудия. Один из них, которому, очевидно, казалось смешным, что старший сын достопочтенного г-на Мане марает красками какие-то картинки, неожиданно спрашивает Эдуарда тоном нескрываемо ироническим: «Вы ведь занимаетесь живописью. У вас что же, талант?» Эдуард вспыхивает: «А у вас-то есть талант?» Призвав сына к порядку, г-н Мане выпроваживает его в соседнюю комнату. После обеда отец входит туда. «Следовало бы знать, – строго говорит он, – что тому, кто намеревается стать художником, талант необходим, а посему заданный тебе вопрос вполне уместен, а вот твой ответ неприличен, оттого что для судейского служащего талант необязателен». – «Но, папа, – возражает Эдуард, – пусть не талант, но хоть ум-то судейским служащим иметь следует».
«Не везет мне, право», – сетует Мане. Как бы ему хотелось вернуть расположение Кутюра, но Кутюр продолжает на него сердиться. Г-н Мане решается на беседу с автором «Римлян», и ему не без труда удается успокоить Кутюра; когда же наконец, о великий боже, Эдуард образумится?
Чтобы отпраздновать возвращение Мане в мастерскую, Пруст и еще кое-кто из товарищей устраивают в ресторанчике «Пигаль» вечер с пуншем. Вряд ли эта затея могла способствовать успокоению Кутюра.
Мане так часто слышит восторги Кутюра по поводу итальянских мастеров, а произведения, виденные им воочию, настолько великолепны, что он жаждет узнать об итальянцах как можно больше. Он мечтает о музеях Флоренции, Венеции и Рима. В сентябре отец вручает ему сумму, достаточную для пребывания в Италии на протяжении нескольких недель; Эдуард отправится туда вместе с братом Эженом – последнему сейчас почти двадцать лет, он изучает право.
Прибыв в Венецию, братья остановились в гостинице, где когда-то жил Леопольд Робер, – в locanda Каттанео, возле театра Ла Фениче, на корте Ниенелли. Через два или три дня они были приятно удивлены встрече с одним из знакомых, адвокатом Шарлем Лиме. Последний путешествовал вместе со своим коллегой Эмилем Оливье, который, несмотря на юный возраст, был человеком с прошлым: в 1848 году Оливье исполнилось только двадцать три года, но он уже играл видную политическую роль в своем родном городе Марселе.
Вчетвером французы осматривали Венецию – ее музеи, церкви, дворцы. Эмиль Оливье, страстно влюбленный в Италию и во все итальянское, выполнял роль переводчика; Мане же предложил свои услуги в качестве художественного гида.
К сожалению, любимые им итальянские мастера не всегда нравятся склонному к мистицизму Оливье. «Какое разительное отсутствие идеала! Что за материализм!» – восклицает молодой адвокат.
Венеция изнемогала тогда под австрийским игом. Заброшены дворцы. Молчат гондольеры. «Собственная скорбь моя усугубляется скорбью народной, – сетует в своем дневнике Эмиль, – как хотелось бы мне веселиться вместе с моими спутниками, но увы, я чаще глотаю слезы».
Мане не до меланхолии. Он, наверное, самый смешливый, самый беззаботный француз в этой компании. Радоваться краскам великих живописцев Венеции, наслаждаться светом солнечного неба, плавать в гондоле по каналам, купаться на Лидо – право, жизнь чудесна, обворожительна и вкусна, как то мороженое, которое он вечерами уписывает на площади Сан-Марко под аккомпанемент австрийской музыки. Он ни о чем не задумывается и живет прекрасным мгновением.
Забыв о Сюзанне, он заглядывается на венецианок. Напротив гостиницы, в доме по другую сторону канала, он приметил юную блондинку дивной красоты – «склонившись над каким-то рукоделием», она почти всегда работает у окна. Мане погружен в созерцание этого лица, тонкого и нежного, как лицо мадонны. С помощью Эмиля Оливье, подсказывающего ему итальянские слова, он пишет крупными буквами: «Ti amo da disperato» («Я влюблен в тебя как безумный») на большом листе картона и начинает размахивать им, чтобы привлечь внимание девушки. Она смеется и, кажется, благосклонна к автору этого признания. Мане тотчас же сочиняет другой плакат: «Andar in gondola?» («Покатаемся в гондоле?») Новая улыбка – по ту сторону канала дали очевидное согласие. Мане хватает итальянский словарь и со всех ног мчится за дверь...