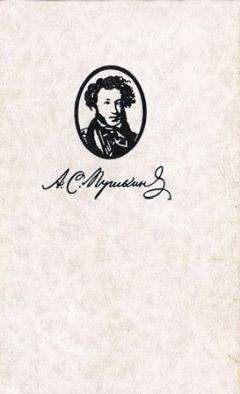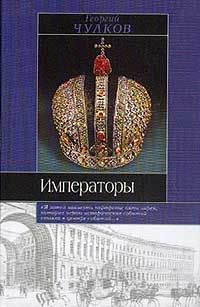Мы разобрали баррикады, и нам дали списки с указанием, кто куда отправляется.
Во второй половине мая нас повели этапным порядком из Александровского централа на Качуг — пристань Лены, где мы должны были сесть на паузки, чтобы плыть по течению три тысячи верст до Якутска. Нас меньше стало. Многих поселили по линии железной дороги. Церетели остался где-то недалеко от Иркутска.
Мы выехали из Александровского села с песнями, неся по-прежнему наше красное знамя. Пешком идти было легче, чем сидеть на тряских телегах, и мы растянулись по большаку. С конвойными солдатами мы сразу сошлись по-приятельски, но на офицера смотрели подозрительно. Ходили слухи, что именно этот офицер расстрелял в прошлом году партию уголовных. Слухи оказались ложными.
Была весна, но по утрам в кадке с водою плавали куски льда, и было холодно. Этапные избы были мрачны. Грязь была такая, что, уронив пятачок на пол, мы теряли его безвозвратно: такой слой жидкой грязи лежал на полу избы. Спали все вместе, мужчины и женщины, на общих нарах, не раздеваясь, конечно. Таких тюрем до Качуга, если не ошибаюсь, было пять.
Но какое наслаждение идти так по сибирской дороге, предчувствуя таежную пустыню, реки, раскинувшиеся на тысячи верст, угадывая весь этот огромный северный азиатский сон, ледяную колыбель мамонтов и прочих допотопных чудищ.
Я был тогда рассеян и молчалив. Многих товарищей, к стыду моему, я вовсе не заметил, о чем жалею теперь, когда убедился, что все люди интересны, все без исключения. Но некоторых я и тогда запомнил — не столько их мнения и слова, сколько общий стиль их, интонацию, выражение глаз. Дзержинский, например, часто подсаживался ко мне на телегу и, если слышал чей-нибудь разговор, казавшийся ему несодержательным, бормотал мне на ухо ироническую свою поговорку «люблю красноречие и буржуазию». Дзержинского я запомнил. Он был тогда стройным, худощавым, гибким. Несмотря на революционную непримиримость и решительность, было в нем что-то польско-женственное и, пожалуй, что-то сентиментальное. Он, кажется, сам это чувствовал и стыдился и боялся этого в себе. Он и Сладкопевцев казались мне характернейшими людьми революции, как я ее тогда понимал. [В двух моих рассказах, напечатанных задолго до нашей революции, — «На этапах» и «Пустыня» — я зарисовал типы «подвижников» революции. Я имел тогда в виду Сладкопевцева и Дзержинского.]
На первом или втором этапе два жандарма привезли к нам из Иркутска еще одного арестанта. Это был В. Е. Попов,[85] прославившийся впоследствии своими корреспонденциями о Спиридоновой,[86] о карательных отрядах и пр., журналист, известный под псевдонимом Владимирова. Он работал тогда как инженер и занимал в Москве видный пост. Он ехал с большим комфортом — с какими-то коврами, самоварами, несессерами, чуть ли не со специальными курортными нарядами, угощал нас ликерами и вообще нарушил своею особою наш арестантский стиль. Впоследствии, когда я жил один в тайге, он гостил у меня дня два проездом, направляясь в какую-то придуманную им экспедицию.
И тогда он был таким же светским, приветливым, раздушенным, и никакая тайга не могла изничтожить в нем пристрастия к преходящим радостям жизни.
Два жандарма, которые привезли Попова из Иркутска, послужили поводом для нашего третьего бунта. Дело было в том, что у нас готовился побег. Собирались бежать Дзержинский, Сладкопевцев и Скрыпник. Дзержинский и Сладкопевцев отложили свой побег до Верхоленска, а Скрыпник спешил осуществить свой план. Конвойные нисколько этому не мешали; жандармы, напротив, были зорки и опасны. И вот мы предъявили требование об удалении жандармов, которые, мол, напрасно нас раздражают. Не все были посвящены в план побега.
Многие настаивали на удалении жандармов от избытка бунтарских чувств и настроений. Тогда выяснилось, что из Иркутска пришла бумага к нашему конвойному офицеру, на этот раз вовсе не двусмысленная, в коей рекомендовалось расстрелять партию, ежели она будет вести себя по-прежнему, то есть не считаясь ни с какими правилами сибирских этапов. Очевидно, у начальства лопнуло, наконец, терпение, и оно решило не церемониться со строптивыми арестантами.
На одном из этапов была сходка, где мы решали вопрос о том, настаивать или нет на требовании нашем. В избе было мрачно, тускло горела коптящая лампочка. Настроение было подавленное. Все чувствовали, что дело идет на сей раз о жизни и смерти. Решено было, однако, не сдаваться и не уступать. Офицер терпеливо ждал конца сходки. Мы сообщили ему наше решение, поразившее его, по-видимому. Мы не знали, что будет. Солдаты стояли вокруг с винтовками и, кажется, тоже чувствовали, что дело принимает серьезный оборот. Тогда добродушный офицер, подумав, приказал жандармам следовать на каком-то почтенном расстоянии, чуть ли не десяти верст, что никак не могло помешать побегу. На это мы, разумеется, согласились. И Скрыпник благополучно бежал. Две ночи мы клали чучело на нары, и конвойные, пересчитывая арестантов, не замечали побега. А когда побег выяснился наконец, офицер наш запил горькую и на паузках уже ехал всю дорогу мертвецки пьяный. Моя жена догнала меня на пароходе, и я должен был получить разрешение на присоединение ее к партии, и вот страж наш долго не мог понять моего заявления, а когда сообразил, в чем дело, защелкал шпорами, не будучи в силах подняться с постели, выражая, очевидно, свое почтение к даме и согласие на присоединение ее к партии. Я по крайней мере так это понял, и жена моя села на паузок. Хороший был человек офицер. Его судили военным судом, но мы своими показаниями выручили его как-то, и он не пропал: служил впоследствии благополучно на железной дороге.
Где-то недалеко от Качуга встретила нас колония политических. Бронштейн-Троцкий[87] опередил товарищей.
Его я увидел первого. Он шел один, махая фуражкой и крича приветствия…
Там, за Качугом, начиналась новая жизнь — огромная великолепная пустыня, зеленоокая тайга, с ее благоуханиями, с ее звериными тропами, с ее шаманскими тайнами…
Мы подошли к Качугу и расположились на берегу, поджидая рассвета. Кажется, дня за два до этого последнего этапа бежал тов. Скрыпник. То, что побег удался, и предстоящий нам весенний путь на Север, и наша буйная молодость — все это волновало нас. Не хотелось спать. Бивуак наш похож был на фантастический табор.
Конвойный офицер на ночь передал охрану партии местной полиции, и наш отряд был окружен стражниками-бурятами, которые с зловонными трубками во рту сидели у костров, поджав под себя ноги, как будды, ко всему презрительно равнодушные.