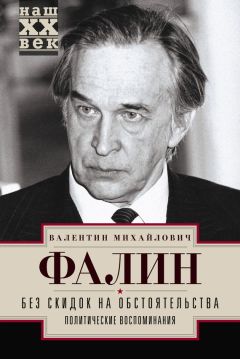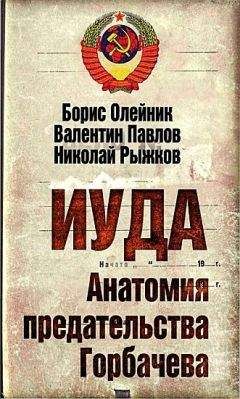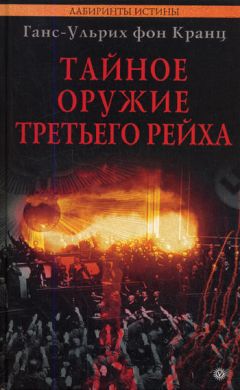Исторический недород, поразивший Россию, которая семьдесят четыре года называлась советской, будет иметь долгие последствия. Народ талантами не обойден, в терпении поспорит с кем угодно. Труднее ответить на вопрос: не вычерпали ли правители это терпение ниже критической отметки? Инертность, безразличие, неверие ни во что – это даже хуже, чем отчаяние. Остается уповать на знаменитое русское «авось». Пронесет, должно пронести.
Жил когда-то на наших просторах великий народ скифы. Без малого тысячу лет прожил. И исчез, оставив в память по себе курганы. Царские, огромные, и ростом поменьше, временем стертые до нераспознаваемости. Почему так случилось, куда целый народ запропастился, где его потомки? Одни этнографы хотят видеть наследников скифов в аланах, другие тянут нить к осетинам, третьим чутье подсказывает искать следы в калмыцких степях.
Повторения скифского чуда или трагедии не будет. Для этого надо было бы перестараться, превратить русских в диаспору без национального очага и, прежде всего, без самосознания и самоощущения. Такой угрозы вроде бы пока нет. Судя по опросам, почти 70 процентов русских хотели бы родиться именно в России и, несмотря ни на какие трудности, не склонны менять свое Отечество ни на какое иное. Так долго, как долго существует Отечество. Рано сочинять ему реквием, хотя для оптимистов ныне не лучшая пора.
Из последующего рассказа вы, читатель, сможете убедиться, что трудности и препятствия не побуждали меня отступать или менять свои представления в угоду личностям. С упрямством, возможно достойным лучшего применения, я тянул лямку, веря в прозрение.
Мудрый араб изрек: все, что должно сбыться, сбудется, даже если сбудется не так. Назовите это оптимистическим фатализмом. Без него трудно было бы выстоять, не раствориться во мраке, который, между прочим, распространяется тоже со скоростью света.
Берлин и далее с остановками и пересадками
После окончания института, летом 1950 г., я ехал в Берлин, к месту своего назначения, в аппарат Советской контрольной комиссии для Германии, тридцать шесть часов поездом через Смоленщину, Белоруссию, Польшу, которые еще не воспрянули от потрясений войны. Вот и Франкфурт-на-Одере. Молча, пустыми глазницами окон он взирает на приезжающих и проезжающих. У него свои боли и горести. Еще полтора часа – и Берлин. О чем можно думать, глядя на него, тогда четвертованного? Отвоевались? Все: и побежденные, и победители, или?..
В Берлин я приехал с набором сомнений в себе и в других. В детстве они выражаются обычно любознательными «почему». В более зрелом возрасте любознательность трансформируется в обостренную реакцию на несуразности, несправедливости, противоречия. Им не виделось предела.
Безумия насилия не должно больше быть. Никогда. А что делать, если война не кончилась, а лишь сменила обличье? В середине 1950 г. холодная и вовсе переросла в жестокую корейскую бойню. Кто и почему ее развязал? Насколько велика опасность превращения неядерного конфликта в ядерный? Никакой уверенности в завтрашнем дне. Официальные и официозные версии, распространявшиеся на обеих сторонах, убеждали чаще в обратном. Особенно когда имелась возможность смахнуть пропагандистскую пену и прикоснуться к реалиям.
Первый выстрел прозвучал с Севера. Отчего же его жаждал, так на него напрашивался Юг? С чего бы события так «удачно» вписывались в наметки западных стратегов, продвигавших планы обустройства сразу нескольких театров военных действий, не в последнюю очередь европейского? Когда случайностей и совпадений перебор – это уже тенденция, если не закономерность.
Не верилось, что Сталин мог снова так крупно просчитаться. Не должен был, имея первоклассную разведывательную информацию. Она позволяла вычислить, как в действительности зовется распутье.
Подобные вопросы укладывались при «правильной постановке» в понятие идейной чистоты. Ни о каком предмете, ни о какой истине нельзя высказаться полно, не произнося о них два противоположных суждения. К. Маркс пошел даже дальше Гегеля, оставив своим последователям завет – «все подвергать сомнению». В наши времена негласно уточнялось: все, кроме слов «хозяина».
Но вот сотрудник Института современной истории извещает меня – он находился в одном концлагере вместе с сыном Сталина, знает подробности пребывания в заключении Якова Джугашвили, может точно указать место его гибели. Докладываю руководству с советом проинформировать Центр. Телеграмма ушла по назначению. Отсутствие реакции побудило ее повторить с намеком на то, что здоровье у свидетеля некрепкое. Нам дали понять – ответа не будет.
Это вызвало чувство протеста. Как может человек, неспособный быть отцом собственному сыну, претендовать на роль отца народов? Все не так. Слишком много противоестественного в нем самом и вокруг него.
Сталинское сусло кончало во мне бродить. Надобно основательнее разбираться. Беру тайм-аут с оформлением членства в партии. Во второй раз. В войну, работая на заводе токарем, воздержался без раздумий откликнуться на призыв настрочить заявление о приеме в партию. Кривить душой не хотелось, а пришлось бы.
Сказать, что все без разбору мне нравилось, не мог, а уточнять, что не нравится, не должен был. Или вас обязательно спросят, как по части «врагов народа» в семье. Двоюродный брат отца был уведен из деревенского дома и пропал бесследно. Неизвестно даже, в чем его обвинили. Мужа сестры матери, начальника строительства большого оборонного объекта под Хабаровском, приговорили «к десяти годам заключения без права переписки». За «шпионаж в пользу Японии». Лишь в 1956 г. нам стало известно, что дядька тогда же, в 1937 г., был казнен.
В 1937–1938 гг. мы с родителями поджидали в тревоге каждую близившуюся ночь – не раздастся ли в нашу дверь стук карающей руки. А днем я помогал отцу относить в котельную дома собрания сочинений Н. Бухарина, Л. Троцкого и других опальных, чтобы предать книги из его библиотеки огню.
Так как мне надлежало бы отвечать насчет «врагов народа»? Проклясть их и предать себя? Встать на защиту, не зная, в чем состоит вина? Ныне проще некуда. Особенно для вчерашних сверхортодоксов, листающих архивы. Они решают проблемы и угрызения способом «экономного мышления» Авенариуса или Маха, оставаясь все теми же ортодоксами, только наоборот.
Я не обладаю способностями по звону бокала определить, кто и какое вино пил из него десятилетие назад. Требовались опыт и знания. Их предстояло накопить. До обобщений было еще далеко.
Из партнеров моего берлинского заезда выделю В. Штофа, он был заведующим Экономическим отделом ЦК СЕПГ, П. Вернера, К. Ширдевана, Ф. Далема, О. Нушке. С ними встречался чаще других и позволял себе вести менее формальные разговоры. В обстановке всеобщей подозрительности и провокаций ростки доверия пробивались трудно и часто, не окрепнув, погибали. Бургомистр Фриденбург, по-моему, это был он, отчаявшись найти нормальный язык с нашими представителями, заявил: русским нужны рабы, а не друзья.