Так я пришел к идее биполя в организации своей шахматной позиции. Когда в ней проявились два полюса – не только королева, но и король, – она получила новое сцепление и новую энергию. Значит – и целостность ее (близость к совершенству и способность самосовершенствоваться) стала порядком выше.
Впрочем, это отдельный разговор, к моему детскому становлению отношения не имеющий.
О том, как я был приобщен к шахматам, из зрителя стал участником игры, в нашей семье существует забавная легенда.
Напомню, что мне было отказано в этом праве из опасения, что шахматы могут стать чрезмерной нагрузкой для моих детских мозгов. Но – знать, как ходят фигуры, быть по призванию игроком – и не играть в шахматы?.. Это невозможно. И я стал играть сам с собою. Вначале только иногда – война, созданная мною и развивавшаяся вместе со мной, удовлетворяла меня вполне. Но в шахматах была неотразимость новизны и загадочность еще не познанного мною смысла. Я постепенно втягивался в них. Расставлял фигуры и ходил поочередно то белыми, то черными. Как это делал мой отец с друзьями.
Подозреваю, что первые десятки этих партий были калькой кроватной войны, просто вместо одеяла шахматы двигались, соблюдая правила, по черно-белым полям. Правда, пришлось слегка подкорректировать привычную стратегию: пешки не ходят назад, – этот принцип приучал к ответственности за каждый выпад моих верных солдат. Основной же план и действия остались неизменными, поэтому любое соприкосновение враждебных фигур заканчивалось кровопролитием. Поляна пустела с пугающей быстротой. Но когда с обеих сторон оставалось всего по нескольку воинов, и каждому теперь был особый счет, я умерял свой пыл и останавливался.
И начинал думать.
Потому что видел необходимость понять, каким образом у одной стороны сохранилось изрядное воинство, в то время как у другой – в два раза меньше. Значит, до этого я что-то делал не так?.. И я вспоминал порядок своих действий – ход за ходом, благо память позволяла, все в ней отпечатывалось с фотографической точностью. Очевидно, анализ не приносил результата, и суть своих ошибок я не мог ухватить, – такой вывод делать приходится, иначе как объяснишь, что и в следующий раз борьба на доске начиналась со столь же яростного смертоубийства.
Да, но ведь на этой остановке партия не заканчивалась. Силы пока были у обеих сторон, причем силы неравные, и мое чувство справедливости естественно склоняло меня на симпатию к слабой стороне. А реализовать эту симпатию было непросто. Поддавки мне претили. И вот тогда я открыл для себя значение и цену пространства на шахматной доске. Только оно позволяло маневрировать, создавать угрозы, не входя в непосредственный контакт, отвлекать ложным маневром, чтобы вдруг – поменяв направление – нанести настоящий удар…
Естественно – это не осознавалось; естественно – это собиралось по крупицам. Накапливалось опытом, превращалось в знание. Знание не сформулированное, но, тем не менее, существующее во мне вполне реально, поскольку в следующий раз я уже пользовался им автоматически.
Но это шахматное самообразование продолжалось недолго. Если вначале мама не придавала значения моим играм на доске, тем более, что и случались-то они редко, то однажды она обратила внимание, что я вожусь возле доски достаточно долго. Она пригляделась – и поняла, что я не просто балуюсь, не просто, подражая взрослым, имитирую игру, – она поняла, что я действительно играю… Насколько это занятие близко к настоящим шахматам, она выяснять не стала. Вспомнив опасения насчет моих мозгов, она решительно забрала доску – и делу конец.
Так, очевидно, она посчитала.
Но яд шахмат уже вошел в меня, да и сладость запретного плода ведь общеизвестна. Короче говоря, я уже заболел шахматами и не имел ни малейшего желания отказываться от этого наркотика.
Выход мне даже не пришлось искать. Он открылся естественно как выражение моей сущности, как воплощение самого яркого из проявившихся у меня в детстве качеств – памяти: я стал играть в уме.
Оказалось, что это нетрудно.
Я видел доску, видел фигуры. Они послушно исполняли любой задуманный мною маневр. А поскольку это не требовало от меня ни малейшего напряжения, то я и не видел в этом ничего особенного. Я не сомневался, что играть в уме умеет любой шахматист, а уж взрослые – тем более.
Как-то так совпало, что именно в это время я заболел. Обычное дело. Вылезать из-под одеяла мне, конечно, не позволялось, и мои возможности в ведении военных действий были весьма ограниченными. Вместо просторов кроватки, на которых ничего не сдерживало мою фантазию, я мог пользоваться всего небольшим пятачком. Я двигался к стенке и ложился на бок, чтобы доступная для игры территория получалась побольше, но все это было не то. Я был лишен маневра и возможности строить сюжет; все сводилось к скоротечным схваткам; их привлекательность из-за частого повторения резко девальвировала, а лишенная мысли динамика не могла разбить скуку.
Выручили шахматы.
Вдруг оказалось, что в них можно играть сколь угодно раз подряд – и при этом они не надоедают.
Это было поразительное открытие.
Разумеется, только сейчас я перевожу в слова то чувство, которое овладело мною тогда. Чувство мореплавателя, уверенного, что открыл небольшой островок, и внезапно осознавшего, что это край огромнейшего материка. А тогда я просто радовался, что могу снова и снова наслаждаться процессом игры, варьировать планы и разрушать их контригрой, хитрить с самим собою, отдавая слабой стороне больше энергии своей души.
Когда ребенок болен и ничем не занят, он обычно куксится и требует к себе внимания или томится в полудреме. А тут моя мама обратила внимание, что ее сын ведет себя как-то необычно. Я не спал, но с игрушками не возился, а просто лежал с отрешенным видом. Все бы ничего, но тут она вспомнила, что какое-то время назад – может, полчаса, а может, и больше часу прошло, – она уже видела меня таким…
Мама встревожилась, окликнула меня, но я только отмахнулся. Подойдя, она ощутила во мне напряжение. Ее ребенок думал!.. Этому бы обрадоваться – что вот, мол, пришла пора, – если б не интенсивность… Она не знала, как быть, стояла и смотрела на меня, и вдруг ее озарило:
– Ты играешь в шахматы?..
Я кивнул утвердительно и сделал знак рукою: не мешай.
– Прекрати немедленно!..
Когда на тебя кричат – разве можно думать? Я перестал. Но когда мама ушла, я повернулся к стене, чтоб она решила, что я сплю, восстановил в памяти позицию прерванной партии и, как ни в чем не бывало, продолжил свою игру.
К чести моих родителей, надо сказать, что они реалистически оценили положение и поняли бессмысленность запрета. В любом случае ситуацию следовало взять под контроль. И в тот же вечер отец подсел к моей кроватке с шахматной доской, расставил фигуры и сказал:
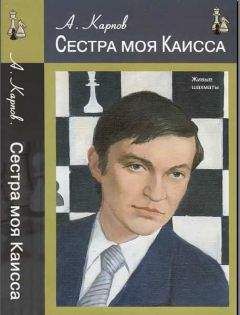
![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)



