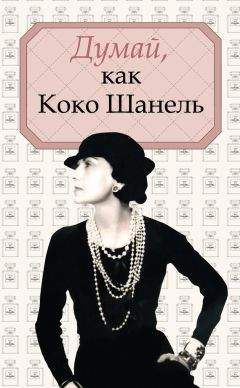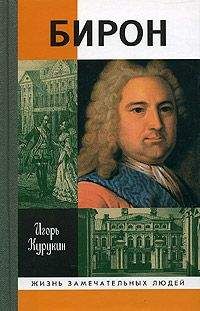<< Коко Шанель любила карманы. Она была уверено, что женским вещам не хватает карманов, этой мужской детали костюма. И привнесла их не только в одежду, но и в аксессуары. Главная деталь в сумочках от Chanel и по сей день – карманы!
<< Изначально, всё начиналось как хобби. Коко начинала с создания шляпок, которые позже завоевали сердца аристократок Парижа. Многие из её шляп были для того времени слишком причудливыми и инновационными. И только позже невинное хобби проектирования необычных вещей превратилось в дело всей жизни.
<< Коко начинала как продавец трикотажа. Знаете ли вы, что до того, как стать легендой, Коко была обычным клерком в маленьком магазинчике трикотажа?
<< Коко одна из первых стала использовать отличный маркетинговый ход – знаменитостей, для продвижения своих вещей. Она одевала знаменитых актрис и снимала для рекламных страниц. С тех пор многие самые успешные актрисы становились лицом марки разных лет.
В настоящее время, каждая модель мечтает быть лицом Chanel – так как безусловно это признак успеха и признания, и что немаловажно – многомиллионные контракты.
<< Коко Шанель ввела в моду загар. Загорелая кожа стала модной именно со времен Шанель. Что самое интересное, это произошло случайно. В 1923 году Коко обгорела на солнце во время круиза, а общественность тут же подхватила «тренд», когда Коко появилась в таком виде в Каннах.
Когда входили замерзшие люди, им наполняли карманы горячими каштанами. Давали с собой, когда они уходили. Над очагом в больших чугунках варили картошку для свиней. Мне не разрешали выходить, но каждый раз, как открывалась дверь, я пользовалась случаем, чтобы выскользнуть из дома. Там надевала сабо. Если бы я вышла в ботинках, то промочила бы ноги и, вернувшись, наследила в доме. Было трудно ходить в огромных, твердых, совсем не гнущихся деревянных башмаках, они делали больно ногам. В них клали солому. Я скользила в них к заснеженному полю. А иногда целую неделю не высовывала носа из дома».
Если они не были крестьянками, ее тетки, чем же они тогда занимались? Из рассказов Коко понятно, что они имели ферму и жили доходами с земель, часть которых принадлежала когда-то и матери Коко. Случалось, ей говорили, показывая обветшавшую ферму или хижину, крытую соломой:
– Если бы ваш отец не разорил свою жену, все это принадлежало бы вам.
Кто ей это говорил, обращаясь к ней на вы? Невозможно задать вопросы, которые напрашивались сами собой. Но какая важность! Лучше не прерывать поток ее воспоминаний. Во всяком случае, кто бы это ни говорил, она не желала слушать, затыкала уши, потому что не выносила, когда критиковали ее отца, хотя он бросил свою маленькую Коко, свою любимицу. Он вернется, убеждала она себя, и у нас будет очень большой дом. Она не входила в детали, но нетрудно было догадаться, когда она рассказывала о своей реакции:
«Во мне все восставало. Я думала: какое счастье, что мы лишились всего этого! Что бы я делала со старой фермой, со всем этим барахлом, которое находила отвратительным?»
Шанель писала: «У моих теток был хороший дом, a это много значило в те времена. Очень чистый. Тогда я не отдавала себе в этом отчета, поняла это много позднее. Когда я там жила, мне все внушало отвращение. Но если у меня есть склонность к порядку, к комфорту, хорошо сделанным вещам, к шкафам с приятно пахнущим бельем, к натертому паркету – этим я обязана моим теткам. Время, которое я жила у них, дало мне ту основательность, какая встречается только у французов. Всему этому я научилась не по романам и не зa границей».
Она говорила: «Я находила дом теток жалким, потому что в моих романах описывалась лишь белая лакированная мебель, обитая шелком. Мне хотелось все покрыть белым лаком. Меня приводило в отчаяние, унижало то, что я спала в нише. Где могла, я отрывала куски дерева, думая: какое старье, какая ветошь! Я это делала из чистой злобы, чтобы разрушать. Хотела покончить с собой. Когда подумаешь, что происходит в голове ребенка… Я не хотела бы воспитывать детей. (Она именно так и говорила – «не хотела бы», a не «никогда не хотела»). Или уж тогда давала бы им читать самые романтические романы. Они лучше всего запоминаются. Я помню все свои книги, все мелодрамы, пропитанные неистовым романтизмом. Мне они нравились, и мне повезло, что я прочла все эти книги, потому что в Париже я оказалась в очень романтический период, в период Русского балета».
Я помню все мои книги. Она читала главным образом романы с продолжением Пьера Декурселя, главного поставщика «Матэн» и «Журналь».
В прекрасном доме теток каждую весну из шкафов вынимали груды простынь и полотенец, переглаживали их. Рассказывая, Коко показывала, как гладильщицы, обмакнув пальцы в миску с водой, опрыскивали белье. Вспоминала о шариках синьки, которые растворяли в воде для полоскания. Она говорила:
«Сейчас простыни везде пахнут хлором, a так как в «Рице» их меняют каждый день, я все время засыпаю в хлоре».
И вздыхала: «Жизнь в провинции была роскошной». Она рассказывала: «В доме теток стол всегда был очень хорошо сервирован, подавали вкусную еду. Фермеры оплачивали аренду натурой. На доске разрезали целую свинью. У меня это вызывало отвращение, отбивало вкус к еде. Но эти годы принесли и свою пользу: меня никогда ничем нельзя было удивить.
Когда я жила в Англии, в роскоши, какую трудно вообразить, – чудесной роскоши расточительства, которая позволяет ничем не дорожить, – так вот это меня не поразило из-за моего детства, проведенного в доме, где всего на всех хватало, где не скупились на еду. В то время это было грандиозно.
Девушки, работавшие у теток, менялись на глазах; они преображались, хорошели, потому что ели вдоволь, мяса было сколько душе угодно.
Дом хорошо содержался, были служанки. Зимой (опять зима!) было холодно в спальнях, но имелось все что надо, никакой скаредности. Меня позднее всегда поражали кольца для салфеток. Их не существовало в доме теток. В сущности, настоящая роскошь – это чистая салфетка каждый раз, как садишься зa стол. Предпочитаю обойтись во все без салфетки, чем хранить в кольце ту, которой уже пользовалась.
Пусть уж мне дадут бумажную салфетку, она не была использована, это лучше. Я видела кольца для салфеток у людей, которые говорят, что любят простоту. Такой простоты я не признаю, достаю свой носовой платок, не могу есть. У меня легко вызвать отвращение. Французы такие грязные».
В одиннадцать лет первое причастие. Она говорила: «Я исповедалась. Это было для меня важно, очень серьезно. Я была уверена, что старый кюре в исповедальне не знал, кто с ним говорит. Так как мне нечего было ему сказать, я нашла в словаре прилагательное, которое показалось мне подходящим, – профанирующий.