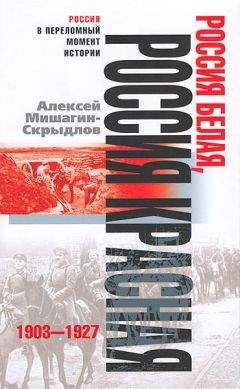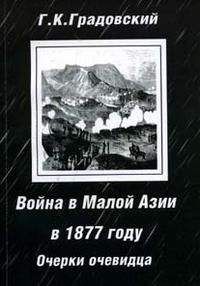Весной 1869 года я перешел в 1-й специальный класс, где получил звание ефрейтора, а весной 1870 года - во 2-й специальный класс, причем впервые удостоился подарка: я получил сочинения Шиллера в шести томах. Во 2-м специальном классе мне, однако, не пришлось быть, так как я, по примеру брата, перешел в специальные классы Пажеского корпуса.
Под конец пребывания в Корпусе я с ним уже свыкся, особенно приятен был последний год, по разным причинам. Во-первых, у нас началось изучение химии и весь класс увлекся этим предметом; каждый день, после обеда, мы впятером отправлялись в химическую лабораторию, где каждый варил что-либо или же просто сидели там, готовя лекции в более симпатичной, своей обстановке. Во-вторых, наш класс, в виде исключения, был принят в состав Товарищества, а это давало право бывать в особом собрании, которое нанималось в городе для старших классов, где можно было посидеть и выпить кофе, а не вечно скучать у Симберга. Четыре года моими товарищами по классу были Ленбек, Брух, Мунк и барон Гриппенберг. Из них первый был самый старший и самый развитой из нас, с отличными способностями, всегда шел первым, большой юморист; он оставил Корпус одновременно со мною (или годом позже?) и посвятил себя литературным профессиям: был стенографом, журналистом и кутилой, и я уже давно потерял его из виду. В нашем классе он был главным лицом, запевалой во всех делах. Брух был хорошенький мальчик, влюбленный в Ленбека, всякое слово которого для него было законом, человек добродушный, хороший ученик, но способностей средних. Он в 1872 году был произведен в офицеры, тяжело ранен под Филиппополем (1878) и затем служил в Финских войсках.
О Мунке я уже говорил, ему повезло в жизни: молодым офицером он женился на хорошей барышне с хорошими же средствами; поступил в Академию Генерального штаба в 1876 году, перед турецкой войной, в которой он не участвовал, но благодаря потерям в офицерах (л.-гв. Волынского) полка был быстро произведен в штабс-капитаны Гвардии; наконец, по случаю той же войны, он весной 1878 года был выпущен без экзамена из Академии в Генеральный штаб. Апломб у него в это время был удивительный, он обо всех рядил и судил, хотя даже не умел грамотно писать по-русски. Оставаясь все время истым финляндцем, он около 1890 года принял должность управляющего делами Финляндской канцелярии (в Петербурге, при Статс-Секретариате), откуда его однако вскоре сместили и понизили до заведующего паспортной частью. Наконец он попал в губернаторы в Финляндии, но при Бобрикове{11} был уволен от должности без пенсии. Пока он служил в Петербурге, мы с ним иногда видались. Он был настолько ярым финляндцем, что своего единственного сына воспитывал не в Петербурге, а в Выборгской гимназии.
Барон Гриппенберг был очень порядочный и добрый малый тоже со средними способностями. Он тоже вышел в 1872 году в офицеры, но скоро перешел на гражданскую службу в Финляндии. Таким образом, из всех моих товарищей мне впоследствии приходилось видеться лишь с Мунком; остальные, рано или поздно, оставили военную службу и затем жили в Финляндии.
Вообще надо сказать, что Финляндский кадетский корпус представлял собою оригинальное учреждение: финских войск в то время почти не было (существовал только один гвардейский батальон), и Корпус должен был готовить офицеров для русской армии. Между тем, Корпус был исключительно финляндский как по составу офицеров и кадет, так и по языку преподавания и учебным программам и, наконец, по всему своему духу! Начальствующие лица были все финляндцы; офицеры служили перед тем в русских войсках, но большей частью уже давно служили в Финляндии, поэтому выговор русского языка у них был неважный; едва ли большинство из них даже могли свободно изъясняться по-русски - для этого у них не было никакой практики, так как все разговоры велись по-шведски и лишь строевые команды произносились по-русски. Любили ли они Россию? Мы этого, конечно, не знали, так как я не помню, чтобы кто-либо когда-либо из офицеров удостоил кадета, частного разговора. Преподаватели военных наук были какими-то выродками: тактику и артиллерию читал полковник Шульц, состоявший в должности преподавателя этих предметов в Финляндском корпусе с 1842 года! Он знал учебники наизусть, но зато не знал больше ничего из своих предметов. Фортификацию же с 1831 году читал полковник Капченков, лекции которого были сплошным балаганом. Если кадеты знали что-либо из военных предметов, то это было исключительно заслугой учебников, но отнюдь не учителей.
Кадеты были сплошь финляндцы; в виде исключения среди них попадались мальчики, жившие до того с родителями в России. Как вообще в Финляндии, кадеты относились к России и ко всему русскому с презрением, как к чему-то варварскому, азиатскому. По сравнению с Россией и ее культурой Финляндия являлась, конечно, передовой страной; впереди нее стоял лишь Запад и, в частности, Швеция. Шведская история, география Швеции, шведская литература изучались с такой подробностью, что едва ли в самой Швеции этим предметам уделялось больше времени и труда.
Единственными представителями чисто русского элемента в Корпусе были нижние чины, состоявшие прислугой при помещениях, при классах и проч. Конечно, в Корпус посылали не отборных людей, и я не знаю, какое о них там было попечение, но они часто бывали удивительно грязными и вонючими; о них говорили с презрением, называя их "верблюдами". Лучше было бы не иметь таких представителей русского элемента.
Признаюсь, что взгляды всей окружающей среды оказали свое влияние и на меня; они высказывались так единодушно и безапелляционно, не встречая никогда ни малейшего противоречия, что им нельзя было не верить. Сухие курсы русской истории и географии при отсутствии сведений о русской литературе и духовной жизни в России не могли повлиять на изменение взглядов кадет.
Преподавание русского языка в Корпусе велось весьма основательно, особенно в смысле изучения грамматики, и на уроки русского языка уделялось много времени. Тем не менее, у большинства кадет успехи были слабые как в отношении выговора, так и умения выражать свою мысль на русском языке. К грамматике, особенно русской, я чувствовал совершенно неодолимое отвращение и никогда не знал ее; по русскому языку баллы были у меня крайне неровные - дурные, если меня спрашивали про грамматику, хорошие во всех прочих случаях. Баллы в корпусе выставлялись по полугодиям; из восьми таких полугодовых аттестаций у меня сохранились шесть*.
Баллы у меня были не блестящи и только под конец стали несколько поправляться. Вероятно, и успехи мои были умеренны; но еще большую роль в этом случае играла строгость оценки в Корпусе, так как я, вслед за переходом в Пажеский корпус, стал получать много высшие отметки.