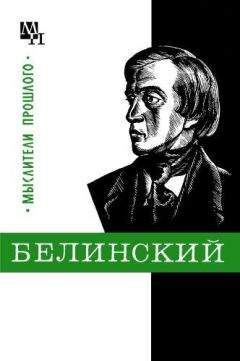Остается одно – созерцать и… радоваться.
Закончим теперь обозрение внешних событий, относящихся к этому периоду. Обстоятельный Herr Розенкранц сообщает нам, что «15 января 1799 года умер отец Гегеля, оставив после себя пустое место в вюртембергской палате, но отнюдь не в человечестве. Гегель – это важнее – „получил в наследство 3154 гульдена 24 крейцера 4 пфеннига“. С этими маленькими деньгами он решился оставить домашнее учительство и попытать счастья на профессорской кафедре. Ему было 29 лет от роду; система в общих чертах уже ясно представлялась его умственному взору. Он был молод, здоров, как прежде, неутомим в работе. „30 лет от роду, – сказано в его паспорте, – ростом – 5 футов и 2 дюйма; волосы и брови темные; глаза серые, нос и рот средние; подбородок круглый; лицо продолговатое“.
Бывший его друг Шеллинг, профессор Йенского университета, с которым он теперь переписывался, обещает «употребить в его пользу свое влияние». Заручившись этим, Гегель едет в Йену, где его ждет дружба, кафедра и, быть может, слава.
Утомительные годы ученичества закончились.
Йена. Гегель и романтикиПереехав в Йену, Гегель немедленно очутился в самом избранном обществе. Йена – университетский город, где Фихте и Шеллинг читали свои лекции, Нитгаммер и Фихте издавали критический философский журнал, где работали и жили братья Шлегели, вокруг которых группировалась целая плеяда романтиков, – Тик, Новалис, отчасти Гельдерлин, Шлейермахер и другие. Жизнь была разнообразна и весела. Фридрих Шлегель вел полемику с Шиллером, удивлял всех и каждого своими злыми критическими статьями, любил свою Доротею и сочинял роман, который должен был положить начало новому искусству; Август Шлегель исследовал мифы; Новалис только что закончил ряд своих глубоко философских, дивно юмористических произведений и, к сожалению, саму жизнь. По всей линии шла оживленная перестрелка. Деятельность Шеллинга достигала своей кульминационной точки. Он энергично читал лекции в университете, работая своей гениальной головой на глазах у публики и у слушателей, удивляя тех и других своими быстрыми скачками от одного предмета к другому, от недописанного сочинения к новому; в журнале Нитгаммера он вел критический отдел в резко полемическом тоне, без пощады казня противников идеализма и своих старых врагов – ортодоксальных теологов, «умевших выбирать отдельные фразы из Канта в защиту своих мнений». Здесь же, в Йене, Шиллер нашел себе убежище и, отдаваясь поэтической деятельности, занимался некоторое время преподаванием истории и эстетики. Йена была как бы вторым местопребыванием Гете, куда он переселялся всякий раз, когда окончание какого-нибудь произведения требовало от него глубокого спокойствия души и свободного времени. Здесь великий и благородный Фихте вел с кафедры упорную борьбу с квиетизмом и пошлостью своего времени. Но энергичнее, деятельнее и заносчивее всех были, конечно, романтики. Это была компания людей даровитых, талантливых, иногда даже с признаками настоящего гения, как у Новалиса, решившихся во что бы то ни стало сказать свое новое слово, большее, чем слово Гете и Шиллера. Из-за этого «нового слова», еще не оформленного, передававшего скорее настроение, чем мысль, шла ожесточенная полемика, разделившая немецкую интеллигенцию на два лагеря: Фихте и Шиллера, с одной стороны, Шеллинга и романтиков, – с другой.
Нам необходимо сказать об этой полемике несколько слов, чтобы определить ту умственную обстановку, в которую попал Гегель после своего бернского и франкфуртского одиночества. Но метафизику и философские разногласия по их малой удобопонятности мы оставим в стороне, а посмотрим, чего добивались та и другая партии в нравственном отношении.
Начнем с Фихте. В своем «учении о науке» он признавал, что внешний мир, будучи представлением духа, не существует в истинном смысле слова, что в действительности он – ничто. Но если «не я», природа, не существует, то в чем же можно найти фундамент для мысли, то есть философии и деятельности? Этот фундамент – человеческое «я», то есть свободная и сознательная разумность, существующая только для себя, знающая только себя, так как больше ничего нет и все вещи – простое отражение деятельности духа. Поэтому «человек есть мерило всего», в нем самом – источник жизни и обстоятельств; природа и государственное устройство – только тень его индивидуального сознания, изменяющаяся по мере того, как растет, крепнет, приобретает свободу и ясность это самое сознание. Нося в себе такое священное, всеобъемлющее начало, можно ли отдавать его в рабство чему бы то ни было, можно ли робко преклоняться перед жизнью, когда во главе всего стоят не обстоятельства, не условия, а личное самосознание? Отсюда очевиден переход к нравственной системе. В чем человек должен искать оснований для своей деятельности? В себе самом. Должен ли он считать что-нибудь высшим сравнительно с голосом своего разума? Конечно, нет. Может ли он бояться какого-нибудь авторитета, созданного верой или государственной жизнью? Но ведь авторитеты, социальные формы – не более чем «отраженная деятельность духа», и новая стадия этой деятельности предполагает и новые условия, новые формы жизни. Призывая к деятельности, к борьбе, Фихте всегда обращался к сознанию человека. Это сознание создало мир и государство, оно наполнило жизнь живыми конкретными образами, которые мы называем вещами; неужели же оно, этот божественный дух, может пресмыкаться в грязи и унижении, забыв свое величие, свое происхождение от эфира и солнца? Жизнь для идеи есть единственная истинная жизнь. Поэтому не трудно понять, что Фихте своей философией, своими высокими нравственными идеалами, все равно как Шиллер своей благородной поэзией, расположил к себе всех деятельных людей. Своими речами к немецкой нации он дал толчок, который обнаружился впоследствии в идеях и стремлениях, одушевлявших долгое время патриотически настроенную, стремившуюся вперед германскую молодежь.
Деятельные натуры примкнули к Фихте и Шиллеру. На стороне этих двух горячих и талантливых людей стояли все, кто принимал участие в судьбах своего времени и отечества. Они надеялись осуществить в действительности свои политические идеалы, в своих нравственных воззрениях твердо держались строгой морали Канта и Фихте и были проникнуты глубоким сознанием своей ответственности перед жизнью. Критическая философия Канта, популяризованная Рейнгольдом, давала их уму завлекательную свободу, приучила бесстрашно относиться к «неразложимым» понятиям, существующим в жизни в виде «неразложимых» форм и функций и, в сущности говоря, совершенно ниспровергала как протестантское правоверие, так и те формы бытия, которые прямо и непосредственно зависели от авторитета теологических представлений. Высокие этические принципы Фихте, его неподдельная горячая любовь к родине, его глубокое уважение к человеку, прямо вытекавшее из основных принципов его теоретической философии, наряду с упомянутым выше критицизмом Канта, создали целое поколение бодрых и энергично настроенных людей, находивших в поэзии Шиллера конкретные образы для своих идеалов, а в ранних произведениях Гете – голос страсти, сознание своего человеческого права на счастливую жизнь. Совершенно иное явление представляла из себя романтическая школа, богатая талантами и дарованиями, выставившая такого философа, как Шеллинг, таких поэтов-беллетристов, как Тик и Новалис, критиков вроде Шлегелей и так далее. Прежде всего надо заметить, что вся романтическая компания, за исключением самых выдающихся, терпеть не могла Шиллера, отвергала его поэзию, не совсем обоснованно чувствуя в ней революцию; с отвращением относилась к действительности и современности, любила природу, Средние века, скульптуру и Восток. Романтики постоянно стремились к подземной, надземной, но только не земной области, в царство видений и духов, к отдаленным временам и народам. Настоящее время и окружающую их жизнь они, вообще говоря, отрицали как пропитанные «прозаическим экономическим духом» или относились к ним с высочайшим презрением. Истинная жизнь – это жизнь поэтического творчества, созерцания образов собственной фантазии, проникновение в тайну мира. В скверной малодушной действительности, умеющей только «продавать дороже и покупать дешевле, – можно зачахнуть, задохнуться». Всеми способами надо убегать от нее… но куда? Тик посвятил одно из своих стихотворений людям, изнуренным реальностью и наслаждавшимся одними мечтами; Гельдерлин искал забвения в созерцании греческих идеалов; Арним писал стихи с той же целью, с какой курят гашиш; Фридрих Шлегелъ сидячую праздность индуса считал идеалом и в прозябании наподобие индуса видел высшее счастье. Только чудесное, только фантазия могут спасти человека от пут и оков современности, и к этому фантастическому, чудесному, неестественному у романтиков была особенная, болезненная наклонность. Они верили в магию, предпочитали астрологию астрономии, так как первая «поэтичнее», и терпеть не могли XVIII век с его практическими задачами, его стремлением выяснять все, исходя из естественных причин. Рассудок оказывался «очень скучным и прозаическим», принцип «полезности» – ничем в сравнении со средневековым принципом «чести». Нет ничего более ужасного, как замкнуться в пределах конечного земного, забыв о всепроникающей тайне мироздания, и так далее.