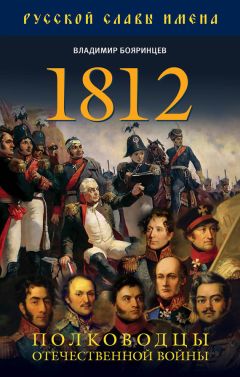Эту небольшую сцену критика давно уже отметила как чрезвычайно характерную для творца Обломова. Люди привыкли восхищаться необычайным, поражающим, редким в природе и жизни. Гончаров, проходя равнодушно мимо ярких и случайных эффектов, относится гораздо внимательнее и любовнее к простому и будничному. «Зачем оно, это дикое и грандиозное, – спрашивает он себя, – море, например? Бог с ним. Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод».
В XIX веке не было, кажется, ни одного поэта, который не восторгался бы морем. Оно – поэтический символ бесконечного, таинственного. Оно шумит и бьется в созвучии с гордой, оскорбленной душой Байрона, вызывает тихую печаль у Шелли. В богатом запасе его мелодий есть родные для каждого. Но Гончарову оно представляется слишком тревожным. Он любит другие картины – родные березы, густые кустарники, спокойную гладь озера, дымную избушку где-нибудь на косогоре. Он чувствует себя хорошо и бодро среди дремлющей осенней природы, в саду, в аллеях, усыпанных пожелтевшими листьями, а бурное море… «Бог с ним!» Горы и пропасти тоже мало его привлекают. «Они созданы не для увеселения человека. Они грозны, страшны». В них природа как будто волнуется, сердится, угрожает, чего-то ищет, куда-то мечется. Обломовка понятнее, милее, она – «своя». «Небо там, кажется, напротив, ближе жмется к земле, но не с тем, чтобы метать сильнее стрелы, а разве только, чтобы обнять ее покрепче, с любовью; оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтобы уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод.
Солнце там ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью среди ненастья ясный, теплый день.
Горы там как будто модели тех страшных, где-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвясь, на спинке или, сидя на них, смотреть в раздумье на заходящее солнце.
Река бежит весело, шаля и играя, она то разольется в веселый пруд, то стремится быстрой нитью или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчанье которых сладко дремлется.
Да, Бог с ними – «этими воплями природы», «этими спящими силами, ядовито издевающимися над гордой волей человека»; однообразные картины родного Поволжья милее и ближе. Они ласковее относятся к человеку, не раздражают, не грозят ему ежеминутно гибелью, в них есть что-то даже материнское».
И где бы ни был Гончаров, какие бы чудеса света ни осматривал он, как бы эффектны ни были море, горы и пропасти, он ни на минуту не забывал близкого сердцу уголка. Его воображение, давно уже отрешившееся от романтической закваски, не требовало и не искало ничего поразительного, экстраординарного. Ни буря, ни вулканические извержения не находили отзвука в его душе: его темперамент требовал порядка, покоя, пожалуй, дремоты.
Он отдавал дань красоте чуждой природы, но среди бесчисленных описаний, разбросанных по страницам двух объемистых томов «Фрегата „Паллада“, чаще всего встречаются описания, имеющие родной и привычный для их автора колорит. С особенным удовольствием рисует он картины тихих вечеров, когда закат солнца прекращает шумливую, беспокойную жизнь, когда так приятно погружаться в созерцательное настроение духа, свободно отдаваясь мимолетным, почти неуловимым мечтам.
Его постоянно тянет к отдыху, к спокойному креслу, задушевной беседе, спокойному молчанию где-нибудь на балконе. Он сам добродушно подсмеивается над такими обломовскими склонностями, но – «не искать же головоломных приключений, да и к чему они?» «Какое наслаждение, – пишет он, например, – после долгого странствования по морю лечь спать на берегу в постель, которая не качается, где со стороны ничего не упадет, где над вашей головой не загремит ни бизань-шкот, ни гротт-бос, где ничто не шелохнется, думал я и вдруг вспомнил, что здесь землетрясения – обыкновенное, ежегодное явление. Избави Боже от такой качки…»
Лучше ехать по гладкой, убитой дороге, чем по ухабам или по краям пропастей; лучше спокойно сидеть на месте, чем описывать вместе с креслом «никому не ведомые математические линии»; лучше наблюдать идиллию, чем трагедию; лучше слышать тихую мелодию, чем тревожные звуки вагнеровской музыки.
…А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой —
этого мотива Гончаров не знал никогда.
С удивительным искусством люди устраиваются на земле так плохо, что хуже некуда. Они не умеют наслаждаться хорошей минутой, привычное быстро надоедает им, в погонях за недостижимым, необычайным тратят свои силы. А разве нельзя жить проще, лучше?…
Однажды среди широкого океана Гончарову показалось, что он увидел перед собой настоящую идиллию, на которую особенно любовно откликнулась его душа. Чудная погода, только что прочитанные книги – все это настроило его на лад Феокрита, и он написал несколько удивительных страниц. Место действия – тогда еще таинственные, малоизвестные Ликийские острова.
«Да, это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Слушайте теперь сказку: дерево к дереву, листок к листку так и прибраны, не спутаны, не смешаны в неумышленном беспорядке, как обыкновенно делает природа. Все будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как декорации или на картинах Ватто. Читаете, что люди, лошади, быки – здесь карлики, а куры и петухи – великаны; деревья колоссальные, а между ними чуть-чуть журчат серебряные нити ручейков, да приятно шумят театральные каскады. Люди добродетельны, питаются овощами и ничего между собою, кроме учтивостей, не говорят; иностранцы ничего, кроме дружбы, ласк да земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они патриархально, толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в дома и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов…
Что это? Где мы? Среди древних пастушеских народов, в золотом веке? ужели Феокрит в самом деле прав? Все это мне приходило в голову, когда я шел под тенью акаций, миртов и бананов; между ними видны кое-где пальмы. Я заходил в сторону, шевелил в кустах, разводил листья, смотрел на ползучие растения и потом бежал догонять товарищей.
Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам.
Между деревьями, в самом деле, как на картинках, жались хижины, окруженные каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью; и это только чтобы оградить какую-нибудь хижину. Я заглядывал за забор: миниатюрные дома окружены огородом и маленьким полем. В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. Еще издали завидел я, что у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьезными лицами, в широких простых, но чистых халатах, с широким поясом, виделись – совестно и сказать – «старики», непременно скажешь «старцы», с длинными седыми бородами, с зачесанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. За них боязливо прятались дети.