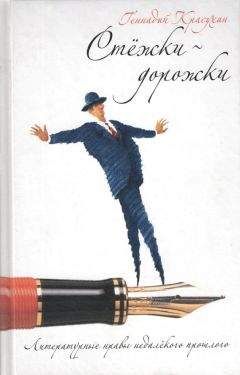Егоров объяснял, что экранизировал рассказ, который был напечатан в «Известиях» как раз накануне выхода прославленного 11 номера «Нового мира» за 1962-й год с повестью «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына.
Позже я прочитал у Солженицына в книге «Бодался телёнок с дубом», каким образом 5 ноября, аккурат под октябрьский праздник, в «Известиях», возглавляемых Аджубеем, как я уже говорил, – всесильным хрущёвским зятем, прознавшим о готовящейся сенсационной публикации «Нового мира», – появился рассказ Георгия Шелеста «Самородок»:
«На редакционном сборе «Известий» гневался Аджубей, что не его газета «открывает» важную тему. Кто-то вспомнил, что был такой рассказик из Читы, но «непроходимый», и его отвергли. Кинулись по корзинам – уничтожен рассказ. Запросили Г. Шелеста. И тот из Читы срочно по телефону передал свой «Самородок». В праздничном номере «Известий» его и напечатали – напечатали с бесстыжей «простотой», даже без всякого восклицательного знака, ну будто рассказы из лагерной жизни сорок лет уже печатаются в наших газетах и настряли всем».
Нет, расчет Аджубея не оправдался: сенсации не получилось. Тема темой, но решена она Шелестом так, что лагерь в рассказе – словно пришитый собаке хвост. Дело там не в лагере, а в том, что четыре коммуниста на Колыме в 1942-м году, намывая золото, нашли самородок весом больше полутора килограмм, произнесли подобающие пафосные слова о родине, которой надо помогать, и сдали его лагерному начальству. А могли бы утаить находку, сбыв её бытовику-учётчику и получив от него гораздо больше благ, чем от начальства, которое в день сдачи самородка всего только их прилично накормило и позволило раньше времени прилечь на нары – отдохнуть от тяжёлой работы.
Варлам Тихонович Шаламов, поначалу друживший с Солженицыным и просвещавший его относительно лагерных колымских нравов, писал ему:
«Когда-то в «Известиях» я прочел шелестовский «Самородок» и поразился наглости и беззастенчивости именно с фактической его стороны. Ведь за хранение самородков расстреливали на Колыме, называя это «хищением металла», и вопрос о том, сдавать самородок или не сдавать – раз его нашли и увидели четыре человека (или три, не помню), – не мог задать никто, кроме стукача».
И с фактической, стало быть, стороны Шелест врёт. Но главное сиропное его художественное враньё – в подтверждении истины, обязательной для мастеров социалистического реализма. А она для них состоит в том, что в любых условиях коммунист всегда останется коммунистом.
Если бы
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозеи.
Ещё бы —
такое
не увидишь и в века!
Маяковскому подобные вещи простительны: он писал это в 1923 – 1924-м годах – в блаженные времена НЭПа, когда казалось, что большевики отказались от людоедских способов управления страной и её народом, обрели человеческое лицо, и прежние «окаянные дни» массовых расстрелов и массового голода никогда больше не вернутся.
Шелест вторит Маяковскому совсем в другую эпоху. К тому же он дважды сидел, знал изнутри быт колымского Гулага. Однако писал не о том, что знал и видел заключённый, но о том, что должно было знать и видеть заключённому, с точки зрения его палачей.
Но в фильме «Если ты прав» оказался невероятно важен зрительный ряд. Пусть воспоминания деда героини, которая выросла в детдоме, и отдавали фальшью, но сама Колыма предстала с экрана в своей обнажённой правде: жуткий мороз, тепло одетые конвойные, злобные собаки, упитанное начальство в полушубках и посиневшие замёрзшие лица заключённых, которых не согревает и костёр (другой вопрос: подпустили бы их конвоиры к костру, который разжигали не для них!).
Так что несмотря на то, что колымский эпизод увязан в фильме с сюжетом весьма формально, демонстрация на экране лагерного колымского быта волею судеб на долгие годы оказалась чуть ли не единственной в своём роде.
Получил Григорий Чухрай ленинскую премию за «Чистое небо». Но там речь о ледяном презрении к человеку при Сталине и о том, как тают льды этого презрительного пренебрежения. Лётчик, побывавший в немецком плену (прекрасная игра Евгения Урбанского) и обречённый жить при Сталине в атмосфере недоверия и подозрительности, обретает справедливость только после смерти тирана. Фильм Владимира Басова «Тишина» проходил через Комитет при мне. Далеко не всех чиновников впечатлила сцена ареста отца героя. В конце концов сценарист, писатель Юрий Бондарев, возглавлявший объединение на «Мосфильме», добился выхода картины в прокат. Успели проскочить ещё несколько картин до того, как окончательно прихлопнули тему сталинских репрессий. Но ни в одной из них лагерь показан не был. Исключение из партии, увольнение с работы, наконец, арест – на большее режиссёры не шли.
В этом смысле Юрий Егоров, очень возможно что не желая того, стал первооткрывателем. Скорее всего, что он действовал из конъюнктурных побуждений, уловил модные веянья. Помните, как сожалел Солженицын, что после публикации «Ивана Денисовича» он, связанный обязательством перед «Новым миром» Твардовского, не решался выступить в других печатных изданиях, на радио, по телевидению, куда его усиленно приглашали. Недолго длился этот период. Но Егоров успел уложиться в него не только со своей картиной, но и с её прокатом.
Успел! Это подтвердил и очень дружеский приём в Смольном, в ленинградском обкоме комсомола всей нашей группы. Секретарь обкома долго и проникновенно говорил Егорову о его картине, охотно отзывался на шутливые реплики Фрадкина, распорядился, чтобы накормили нас в обкомовской столовой, и разрешил каждому позвонить по прямому телефону в Москву.
Да, без всяких посредников и кодов: снял трубку, услышал гудок и набирай московский номер!
И здесь я оценил дарование Станислава Любшина. Набрав номер, он вдруг тяжело задышал, посмотрел перед собой несомненно не видящими явь глазами, назвал жену по имени и произнёс: «Говорят из Смольного – из штаба Октябрьской революции». На лбу его выступили бисеринки пота. Несколько минут он был глубоко погружён в роль: с женой говорил не её муж Слава Любшин, а представитель штаба революции, что подтверждали и его голос, и его жесты, и изменившееся выражение лица. К естественному своему состоянию он вернулся не сразу: потребовалось какое-то время после телефонного разговора, чтобы выйти из роли или даже транса. «Да, Слава – артист от Бога, – подтвердил мне Егоров, когда я поделился с ним своими наблюдениями. – Он ещё себя проявит, ещё потрясёт мир!»
С Юрием Павловичем Егоровым у меня в той поездке установились доверительные отношения. «Конечно, будь их воля – закрыли бы, – согласился он со мной о действиях чиновников, принимавших его картину, – но в том-то и дело, что своей волей они ничего делать не могут!»