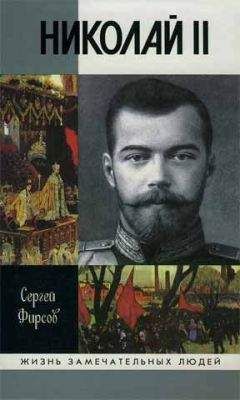В таких условиях необходимо было проводить чрезвычайно аккуратную национальную политику, опасаясь резких заявлений и непродуманных действий. На практике все было не так. К примеру, «пренебрежение национальными и вероисповедными интересами местного населения, дикое самоуправство административной власти и массовая конфискация земель в интересах колонизации превратили Казахстан и Среднюю Азию во взрывоопасный для царизма регион, подготовив почву для андижанского восстания 1916 года». Известный отечественный ученый В. С. Дякин, которому принадлежат процитированные выше строки, полагал, что национальный вопрос в эпоху последнего царствования стал одним из важнейших дестабилизирующих факторов. К сожалению, необходимо признать безусловную верность данного заявления, согласившись и с тем, что «при определенной степени зрелости этносов, включенных в состав многонациональных империй, удержание их в одном государстве становится возможным только при помощи силы. Поэтому как только империя демонстрирует отсутствие такой силы, она разваливается».
В 1913 году казалось, что у империи сила есть, что она сможет решить свои проблемы и выйти на исторический простор обновленной и сильной. Экономические данные, свидетельствующие о состоянии России, вселяли оптимизм. Укреплялась уверенность в том, что окончательное решение земельного вопроса не за горами. А раз так, то коренное великорусское население, несомненно, будет самой крепкой опорой самодержавной власти. Насколько верны оказывались подобные ожидания? Попытаемся ответить.
Земледельцы составляли большинство подданных русского монарха. И. И. Толстой полагал, что не ошибется, утверждая, что из общего числа 88 миллионов «русских всех трех наречий» не менее 70–75 миллионов — хлебопашцы. Таким образом, по его мнению, кардинальным вопросом русской жизни являлся аграрный, «в широком смысле». Нельзя сказать, что вопрос этот не решался — после Первой российской революции крестьянская жизнь постепенно изменялась к лучшему. Согласно данным 1912–1916 годов, площадь Европейской России (не считая Польши и Финляндии) была около 410 миллионов десятин, из которых 130 миллионов составляли пахотные земли, 80 миллионов — луга, 130 миллионов — леса и 70 миллионов — земли, неудобные для занятия сельским хозяйством. Более 50 процентов леса и большое количество неудобных земель принадлежало казне (около 110 миллионов десятин). 35 миллионов десятин числились как земли уделов, а также городские, церковные, банковские, войсковые. Свыше 75 процентов пахоты и лугов находились в руках крестьян — это более 180 миллионов десятин. Частные владельцы распоряжались 55 миллионами десятин, половину которых составляли леса. Ежегодно более миллиона десятин переходили в руки крестьян при посредстве Крестьянского банка.
«Не прошло бы и двадцати лет, — полагал Б. А. Энгельгардт, — как аграрный вопрос, чисто эволюционным путем, оказался бы фактически разрешенным полностью». Оптимистические прогнозы делали в то время и иностранные эксперты, писавшие о серьезном улучшении экономических условий жизни русских крестьян[89].
Можно ли было доверять им? Безусловно, можно, но с некоторыми комментариями. Глубоко изучавший аграрные проблемы николаевской России В. С. Дякин полагал, что финансирование сельского хозяйства не могло существенно изменить в лучшую сторону положения деревни, а это неминуемо должно было сказаться (и сказалось) на политическом будущем страны. В экономическом и политическом строе империи не были преодолены полуфеодальные пережитки, затруднявшие приток капиталов в сельское хозяйство. Это привело к тому, «что в третьеиюньский период диспропорция между промышленным и сельскохозяйственным производством увеличилась. По подсчетам С. Н. Прокоповича, — писал ученый, — чистый прирост производства (без влияния изменения цен) составил с 1900 по 1913 год в промышленности 62,7 процента, а в сельском хозяйстве 33,8 процента. В обоих случаях этот прирост почти целиком падает на 1907–1913 годы. При этом рост производства в сельском хозяйстве происходил в значительной мере за счет экстенсивных факторов — увеличения посевных площадей за Уралом и на юго-востоке Европейской России и серии урожайных лет. Наименьшую роль в некотором подъеме сельского хозяйства сыграла земельная реформа, влияние которой только начинало сказываться…». Логика В. С. Дякина понятна — он связывает возможности качественных изменений в деревне с проведением социально-политических реформ. Остановка реформ, таким образом, для сельского хозяйства была равносильна строительству большого здания при отсутствии прочного фундамента.
Однако существовало и еще одно обстоятельство. Россия, при всем своем предвоенном движении вперед, существенно отставала от европейских стран — как своих союзников, так и будущих противников. Из всех ведущих мировых держав, вставших на путь капитализации народного хозяйства, по всем имперским структурам Россия занимала последнее место (только Великороссия приближалась к среднемировому уровню). По размеру национального дохода у России было четвертое место в мире, по среднедушевым показателям она находилась на предпоследнем месте, опережая лишь Японию, но не достигая среднемирового значения. Все российские качественные показатели (как то: объем промышленного производства на человека и годовая выработка одного рабочего) составляли половину среднемировых значений, в 5–10 раз уступая Соединенным Штатам, Германии и Великобритании. И это притом что в период между 1890 и 1913 годами русская промышленность увеличила свою производительность в четыре раза! С 1910 по 1914 год число вновь учреждавшихся акционерных обществ возросло в России на 132 процента, а положенный в них капитал — почти в четыре раза. Экономическое развитие — несомненно, но оно не успевало за стремительно менявшейся политической обстановкой, заставлявшей серьезных политиков задумываться о приближающейся войне. А ведь по основным показателям оснащения вооруженных сил Россия уступала не только армиям Германии и Франции, но также Италии, Австро-Венгрии, Японии. Даже в мирное время российская промышленность в лучшем случае могла обеспечить только текущие нужды вооруженных сил в основных типах вооружений, а современных ударных систем в императорской армии было в два — пять раз меньше, чем в Германии и во Франции.
Примеры можно продолжать. Но что из этого следует?
Только одно: по качественным показателям, характеризующим степень индустриализации, страна, как отмечает историк А. И. Степанов, «являлась развивающейся аграрно-индустриальной державой, обладавшей огромными возможностями. По природно-демографическому потенциалу она занимала одно из ведущих мест в мире после Британской империи, значительно превосходя (в 1,5–6 раз) все остальные державы. По уровню индустриализации общества и экономическому потенциалу в целом Российская империя, включая ее центральные части, наряду с Японской империей, входила в третью группу индустриально развивающихся стран, в которых были созданы основы крупного машинного производства, имелся значительный отряд фабрично-заводских рабочих…». О чем это говорило? Только о том, что легенда о «русском паровом катке», который своей мощью может раздавить любого врага, могла дорого стоить стране.