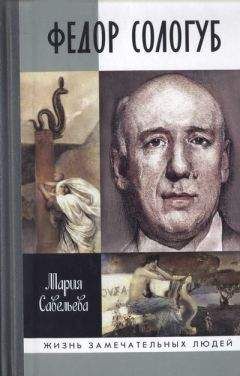Стихи:
Томима страхом и стыдом,
Окольным крадется путем,
Походкой трепетного вора,
Чтобы никто не мог позора
В лице смущенном прочитать
И ядовитого укора
Вослед преступнице послать.
Идет — а что-нибудь услышит,
Остановяся, еле дышит.
Калитка ль близко заскрипит,
Иль голоса где прозвучали,
Или по ветру долетит
Неясный звук из темной дали,
Или шаги — она бежит,
Как лань, дика и боязлива,
Таится тихо где-нибудь.
И как неровно, как пугливо
Трепещет розовая грудь.
Но вот и дом; по огороду
Пройдя, она подходит к своду
В свою печальную тюрьму.
Что скажет мужу своему?
Она в тоске ломает руки.
Но, одолев порывы муки,
С тупой покорностью рабы,
Без отвращения, без борьбы,
Господне имя призывая
И низко голову склоняя,
Она вошла. Душа больная,
Заветы юности храня,
Забыла жар того огня,
Была подавлена. И пала.
Она униженно перед ним
И все, рыдая, рассказала.
И, чувством тягостным томим,
Он стал бледнее покрывала.
Дрожа, испуганным лицом
Она сапог его касалась.
Потом удары, боль… потом…
Что было дальше, тяжким
сном
Душе измученной казалось.
Боль нестерпимая сильней.
Мольбы срываются и пени.
Но тяжко давят спину ей
Его жестокие колени.
И быстро в воздухе свистят,
На тело падая, удары.
Истерзана, обнажена,
Горячей кровью обливаясь,
В жестоких муках содрогаясь,
Лежала на полу она.
И долго продолжались муки,
И дик и тягостен был стон,
И все слабели эти звуки,
И замер понемногу он.
Она забылась. Долгий сон,
Тяжелый сон без сновидений
Больную душу посетил
И ум усталый осветил.
К чему? Для новых ли
мучений?
Спускались сумерки и мгла,
Она, дрожа, открыла очи
И поднялась во тьме полночи.
Она оставлена была
На месте том, где наказанье
Над нею было свершено.
Не уменьшалося страданье,
И тяжко мучило оно.
Едва удерживая стоны,
Она к подножию иконы
Упала с тихою мольбой,
О том, чтоб Бог послал прощенье
И дал ей силу и уменье
Быть снова верною женой.
Лампада сонная мерцала,
Муж на кровати тихо спал,
Она, склонялся, рыдала,
И очень билась и стонала,
Но Бог отрады не послал.
Истомлена, с душою смутной,
Вот, наконец, она встает
И, содрогаясь поминутно,
В тоске томительной идет,
На лавку узкую ложится
И забывается; и снится
Ей сладкий сон: с ним вместе
вновь
Она среди благоуханья
Деревьев свежих и цветов.
Как восхитительно свиданье,
Как упоительна любовь!
Но скоро тяжкое страданье
Ее разбудит, и полна
Тоски и горести, застонет,
Поднимется, но скоро склонит
Больную голову она
В объятья сладостного сна.
Параллель в прозе:
Томимая страхом и стыдом,
Она медленно шла к дому,
Не улицей, а задворками,
Озираясь и крадучись,
Чтобы никто не видел ее
позора,
Начертанного на смущенном лице.
Заскрипит ли близко калитка,
Послышатся ли шаги и голоса,
Или вечерний тихий ветер
Донесет откуда-то неясные звуки,
За кусты, за березу прячется
И пропускает прохожего, стоя
В тревожном и рабском ожидании,
Боясь пошевелиться и дышать,
Чтобы ее не увидели.
И, подойдя к своему дому,
Долго стояла она у дверей
И прислушивалась, и колебалась
Войти, или ей бежать,
Бежать далеко от мужа
И погибнуть черной смертью,
Утонуть в холодной волне.
<…>
Истомленная, негодующая,
Полная странного гнева,
Внезапно ее охватившего,
На четвертое утро внезапно
Она открыла свою тайну мужу.
Спокойно стоя перед ним
И не поднимая на него глаз,
Рассказала она подробно
Историю своего падения.
И побледнел муж, испугался
И как подкошенная береза
Опустился на скамью.
Сжало ее сердце тоскою
Невыносимо горькою,
Задрожала она и в страхе
Опустилась перед ним на
колени
И, рыдая, склонилась головой
До самого пола; и с воплем
Ползла она на коленях,
На голых коленях. Голая,
Потому что юбка была
коротка.
Как виноватая собака к его
ногам.
И обняла руками его ноги
И целовала его сапоги,
Смазанные дегтем, устами,
На которых горели чужие
поцелуи.
Но он гневно оттолкнул ее,
Концом сапога ударив ее
По ее красивому лицу,
И встал со своей скамейки
И пошел к дверям.
И она ползла за ним на
коленях,
Не поднимая лица от земли,
Целуя пятки его сапогов,
И доползла она до порога.
И он взял ее за косы
И протащил через сени
До темного чулана и в нем
Быстро поднял ее с пола
И широкою, сильною ладонью
Бил ее нежные щеки,
Пока они не распухли.
Тогда он запер ее здесь
И ушел куда-то.
Она осталась одна,
Покорная своей участи,
Ждала она новых истязаний.
И он скоро вернулся,
И принес он с собою
Несколько толстых связок
Гибких и длинных розог.
Медленно запер он двери
И задвинул их засовом.
Приказал жене раздеться,
И она сняла свою юбку.
Сняла через голову,
Не вставая с колен,
И осталась в одной рубахе.
И он связал веревкой
Ее послушные руки,
Повалил ее толчком в спину
И, подняв ее ноги, связал
Режущей туго веревкой.
И сел он на скамью,
И, положив жену на колени,
Начал ее пороть,
Сильно взмахивая розгами.
Жестко и больно сыпались
<удары>,
Она кричала и металась,
И стонала громко и жалко.
Кровь брызгала из нежного тела.
Наказанье длилося долго.
И когда иссечен был ее зад,
И сделался он багровым,
Удары сыпались на спину.
Много прутьев было сломано.
Уже не кричала она,
И тихо стонала,
И все тело ее было багрово,
От трепещущих икр
И до половины спины.
Наконец, полуживую,
Он бросил ее на пол чулана
И вышел, замкнув двери.
<2>
На игры уличных детей
Глядит он с завистью невольной
И копит гнев в душе своей,
В душе лениво недовольной.
Бессильный гнев на этот гнет,
На эту мрачную могилу,
Где он безвременно убьет
Свою талантливую силу.
Где развратится он душой,
Где он привьет к себе пороки
И в первый раз в душе больной
Услышит совести упреки.
Бессильный гнев! В ином краю
В иные дни его вспомянет
И сердцем робким он проклянет
Всю жизнь развратную свою!
Не знал он общества детей,
В тоске ребяческой своей.
Он не бывал утешен другом,
И вдруг томительным недугом
Он занемог: развратный рой
Мечтаний детских — неразумных
Ему ниспослан был судьбой
В замену игр беспечно шумных.
И стал он робок, как больной,
Угрюм и хил, застенчив, бледен…
Тепла пуховая перина.
Его не будят, а к чему
Поторопиться самому?
Ничто веселое не тянет
Его пораньше встать;
И он один; так рано встанет
Да и уйдет сейчас же мать.
И вот он, лежа на постели,
Мечтает; страшные мечты!
Какие мрачные черты
Они в душе напечатлели!
Ни друга, ни спасенья нету,
В своей семье он одинок,
И не одну уже примету
На нем оставил злой порок.
И те глаза, что прежде живо
На все глядели так пытливо,
Теперь тусклы, и огонек,
Который ярко в них светился,
Теперь потух и заменился
Какой-то робостью немой,
Какой-то смутною тоской.
Она мальчишек не терпела,
Но крестника любила так,
Как любят кошек и собак,
И если не было ей дела,
Чуть не носила на руках,
И целовала и ласкала,
Но знала, что полезен страх,
И баловать не позволяла.
Без многих нынешних затей
Игрушкой новою своей
Она со скуки увлеклася
И воспитанием его
Сперва прилежно занялася.
Конечно, тут важней всего,
Чтоб мальчик был приличен с виду,
И, чтобы глядя на него,
Ей не почувствовать обиду,
Сравнивши крестника с другим.
Что ум, ученость? Это дым,
Порой безверия примета.
Необходимое для света
Получит в школе он потом;
К чему же боле? Но о том,
Что можно нравственное чувство
Еще в ребенке развивать,
Когда же было ей понять?
Одно знакомо ей искусство:
Сердца кокетством волновать,
Искусство нравиться мужчине,
Позировать, как на картине,
Казать, с талантами купца,
Товар с казового конца:
И быстрый взор, и стройность стана,
И незаметные румяна,
И краску нежного лица.
Полна притворства и обмана,
Молве людей покорена,
Себялюбива и ничтожна,
Могла ль не веровать она,
Что жизнь иная невозможна?
Могла ль не веровать, что ложь
Царит над лживою толпою,
Что правдой счастья не возьмешь,
Как лбом стены не прошибешь,
Как шар земной одной рукою
Назад, на запад, не вернешь?
Не воспитанье — дрессировка
Была для мальчика нужна.
Со скуки этим делом ловко
Усердно занялась она.
За неприличные привычки
Она ему давала клички
И сорванца, и шалуна.
Учила вежливым манерам,
Старалася ему внушить,
Что быть приличным кавалером
Везде он должен, не срамить
Собою тетушкина дома
И при гостях не походить
На деревенского облома.
Ах, он ли, смелый и живой,
Вдруг станет шелковым барчонком?
Он, в тесной келье запертой,
Глядит откормленным волчонком.
Волчонок станет ли ягненком?
Заговорит ли соловей
Скороговоркой попугая?
Нет, песни вольные полей
Поет он; клетка золотая,
Что в душной комнате висит,
Ему полей не заменит.
И часто бедный городок
Он вспоминал, где был он весел,
Где в доме лавки вместо кресел,
Но где он не был одинок,
Где вместо этой тетки строгой
Одною жизненной дорогой
Толпа веселая с ним шла,
И жизнь была так весела;
[Где было платье не из шелка
На теле крепком и живом,
Где жил на улице, а в дом
Он возвращался ненадолго.]
Где необутою ногой
Он мял цветы родного поля
И где средь жизни трудовой
Еще над ним царила воля.
Он покраснел бы до ушей,
Когда б босой пошел из дому,
Нет, даже в комнате своей
Не пробежать ему босому.
Нрав человека переменчив:
Как прежде был он смел и жив,
Так ныне стал он и застенчив,
И как-то странно боязлив.
Его секла нередко мать
Там, дома, — часто очень больно,
Под жгучей розгою довольно
Пришлось ему там покричать.
Хотя в рубцах бывало тело,
Хоть брызгала порою кровь,
Но от побоев не скудела,
Питаясь ласками, любовь.
Отодранный на обе корки
И поневоле присмирев,
Он на другой день после порки
Позабывал недавний гнев.
[И эти силы поддержали
Его могучий организм,
Хотя безжалостно ломали
Его тоска и онанизм.
Наследство мрачного Онана,
Что перед братнею женой
В долинах древле Ханаана
Блудил преступною рукой,
И изливал на землю семя!
Тебе я песнь мою пою,
Тебе, губительное бремя.]
И быстро начал он хиреть,
И прежнюю сменила живость
Необычайная пугливость.
Как рыба, пойманная в сеть,
Он в новой сфере задыхался,
И что ни день, то все сильней
Суровой тетушки своей,
С ее угрозами, боялся.
<3>
Повсюду тягостная лень
В горячем воздухе разлита.
Склонясь над речкой, задремал,
Осилен зноем, городишко,
И каждый ветхий в нем домишко,
Как старец, тихо почивал,
Закрывши ставни, словно очи,
И в тихий сумрак полуночи
День своенравно превращал.
Не спали только ребятишки,
Босые прыгали мальчишки,
Играли, несмотря на грязь,
По грязи пачкать не боясь
Свои привычные ножонки,
Одежды, лица и ручонки.
В домах все тихо; лишь ревет
Ребенок где-то недалеко:
Должно быть, матушка сечет
Его за что-нибудь жестоко.
Порою брань из кабака
В прогнившем воздухе несется
И в детском слухе остается,
Бесчеловечна и дика,
Порою звучно раздается
Удар удачный кулака,
Порою смех, порой рыданье,
А чаще мертвое молчанье.
Как будто жителей здесь нет,
И невредим, от древних лет,
Умерший город сохранился.
Проснулся город в этот час,
Картина тягостного быта,
Все то, что в полдень было скрыто,
Вновь выступает напоказ.
Идут, зевая, мужики
К своим телегам от харчевни,
И едут, сонны и легки,
К своей заброшенной деревне.
Как тени, заспанные лица,
Отвсюду медленно идут,
Соседки-кумушки несут
Свои пустые небылицы.
Лобазник толстый на крыльцо
С своей супругою выходит
И, отерев платком лицо,
Глазами сонными поводит,
Идет по улице большой,
Лениво, словно боров жирный,
Что в этот час в грязи густой
Лежит в своей отраде мирной.
Купчина жиром весь заплыл,
Жирна дородная супруга.
[Купчина красен, как кумач,
Красна купеческая шея.
Пот льется градом,
Влачит он бремя живота,
Вздыхая тяжко; рядом
Его жена своим нарядом
Безвкусным сильно занята.
Лицо бессмысленно и тупо;
Лениво тусклые глаза
Глядят рассеянно и глупо.
Картины ветхой нищеты
Не возбуждают сытых взоров,
Спокойны резкие черты.
Не видно совести укоров,
Его дородная жена
Крута, румяна и красна.
С такими ж глупыми глазами
За ними маленький сынок,
Упитанный и шаловливый,
Что попивает уж чаек
За двух…]