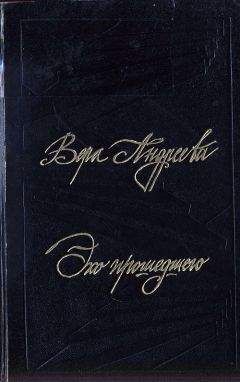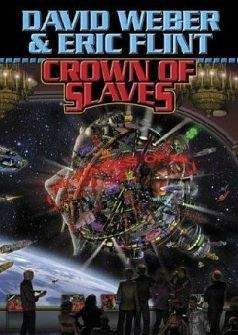Если бы меня спросили — как я представляю себе поэта, я бы без колебания сказала — Бальмонт! У него будто в самих глазах видны были стихи, — мне кажется, он и думал только стихами… Возможно, что Блок обладал более интересной и более «типической» наружностью, отвечающей общепринятому понятию — «поэт». Бальмонт не обладал ни высоким челом с тучей темных кудрей над ним, ни продолговатым красивым лицом, ни надменно сжатыми губами. Он был невысокого роста, очень подвижный, с быстро меняющимся выражением лица. Немного одутловатые щеки, распушенные тонкие блондинисто-седые волосы нимбом стояли над лбом, небольшие серо-голубые уже со старческими красноватыми жилками глаза, которыми Бальмонт озирал с большим удовольствием хорошеньких женщин.
С жадностью смотрела я на Бальмонта, впитывая в себя каждый жест, каждое движение лица. Он мило улыбнулся мне и воскликнул:
— Вы только посмотрите, какие у нее глаза — настоящие самоанские! — И я вспомнила, что Бальмонт довольно долго жил на островах Самоа… Мне был донельзя приятен этот комплимент, так как — загорелая и глазастая — я считала себя похожей на дикую полинезийку, воображаемая наружность которой отвечала нашим понятиям о красоте. Хорошенькой моей сестре Нине, стройной и тоненькой, Бальмонт тоже польстил, сказал, что она — черный тюльпан; даже в этом несколько вычурном сравнении заметна поэтическая особенность Бальмонта — изысканность, изящество, неожиданность и эстетическая возвышенность сравнения, — кто когда видел черные тюльпаны? Таких в природе не существует, — может быть, голландские садовники и вывели сорт тюльпанов настолько темно-красных, что они кажутся черными, но так же, как «…Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ам…» Блока, черные цветы являются привилегией поэтического мышления — обыкновенный смертный никогда не решится на такое смелое вмешательство в цветочное хозяйство природы.
Потом за Константином Дмитриевичем пришла его жена Елена Константиновна — сухая, миниатюрная полуседая блондинка с совершенно необыкновенными громадными глазами чисто бирюзового цвета. Взгляд ее из-под темных ресниц был по-детски наивным, трогательным и доверчивым. Несмотря на частую сетку мелких морщинок, она казалась девочкой, злым волшебством вдруг превратившейся в старуху. Но необыкновенные эти глаза были усталыми, озабоченными: в них жило извечное женское беспокойство — беспокойство матери над трудным своим ребенком, а разве не большим ребенком был этот поэт, ничего не понимавший в реальном, повседневном мире, живший, как та птичка божья, которая «не сеет, не жнет», полагаясь на господа бога, который ее накормит, обогреет, приласкает. Я не хочу этим сказать, что Бальмонт бездельничал и только витал в облаках, — он был на редкость трудолюбив и кроме своих стихов он переводил целые горы рукописей чуть ли не со всех языков мира, — многие из них приобрели широкую известность и печатались еще до революции: «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Аннабел Ли» Эдгара По. Прелестное мелодичное стихотворение — баллада о девушке по имени Аннабел Ли, в переводе которого Бальмонт сохранил всю напевность и деликатную красоту оригинала: «…И ни ангелы неба, ни демоны тьмы разлучить никогда не могли — не могли разлучить мою душу с душой обольстительной Аннабел Ли…» Слезы почему-то выступают на глазах от беспредельной тоски и нежности этих слов — настоящим волшебником должен быть поэт, сумевший раскрыть скрытую прелесть чужого языка, его звуковые и ритмические особенности.
И вот этот «поэт божьей милостью» живет в парижском предместье, в крошечной комнатушке, «с мебелью», сделанной из ящиков от овощей-фруктов, с вечно ревущим примусом, на котором деликатнейшая Елена Константиновна, с глазами усталой мадонны, жарит ему эмигрантскую селедку, варит борщи из завядших несвежих овощей, — и так недорогие, они продавались за полцены.
Довольно часто, посланная мамой с кошелкой, в которой бережно хранилась кастрюля с какой-нибудь снедью, ею приготовленной, или чаще просто с продуктами (маслом, мясом, картошкой), я приходила в эту бедную комнату, где с трудом можно было повернуться: всюду громоздились книги, бумаги, рукописи — и на самодельных полках, и на столе, и на стульях, и на неубранной постели, где, сонно протирая покрасневшие глаза, сидел поэт с взъерошенными, торчащими во все стороны волосами, с помятыми щеками, на которых нездоровая одутловатость становилась еще заметнее, — увы, страсть Бальмонта была всем известна…
Как сейчас вижу печальную картину бальмонтовских будней: пасмурный, туманный вечер промозглой парижской осени, безлюдная улочка предместья, на перекрестке традиционное бистро, под промокшим брезентом на тротуаре несколько круглых столиков с мраморной столешницей, железные стулья, за одним столиком в углу сидит пара, — вглядевшись, я узнаю Константина Дмитриевича: воспаленное лицо дергается, опухшие глаза мечут молнии вдохновения, рука делает широкие жесты — он что-то декламирует. Перед ним бутылка с вином, стакан. А рядом безмолвно сидит Елена Константиновна: вся сжавшись в комочек, похожая на замерзающую мокрую птицу, — она, как верный дух, бдит над мятежной душой любимого, смотрит беспомощно, как немилосердно губит он свое больное сердце, и ее глаза… Какое море страдания в ее потухших, когда-то прекрасных глазах.
У Бальмонта была дочь — Мирра Бальмонт, с ударением на последнем слоге, по старой орфографии писалось слово «миро» через ижицу, вот и имя дочери поэта должно было так писаться, — сам поэт говорил, что это символическое имя: миром мазали раскаявшихся грешников в знак прощения и божьей милости — помазанником божьим назывался царь, при крещении младенца миром творили священники крест на лобике, на грудке, даже на крошечных ладошках и ступнях. Помазание должно было хранить ребенка от всех будущих напастей. Так и имя Мирра должно было хранить девочку от всех жизненных несчастий. Так надеялся Бальмонт, но, к сожалению, его заветное желание не исполнилось.
…Мы перестали ездить летом на море, так как это обходилось слишком дорого. Лето в Париже большею частью очень жаркое — бывают дни в июле, когда солнце прямо-таки растапливает асфальт, пыльные тощие деревья вянут и не дают тени.
— Как в моей дорогой Евпатории, — говорит мама, — тоже вот так в одних рубахах мы сидели в садике, стараясь не шевелиться и все время обтирая пот, ждали, когда к вечеру наконец станет прохладнее…
Этого опять-таки мы не могли понять, — да ведь в Евпатории море!
— Разве вы не ходили купаться? — восклицали мы, но мама уклончиво отвечала, что было довольно далеко, да потом во времена ее детства купание считалось чем-то экстравагантным, купались только приезжие, да и те надевали плотные костюмы с рукавами, штаны до колен, сверху еще юбка, на ногах чулки, башмаки, — считалось неприличным раздеться, загорать, от загара продавались разные кремы, дамы носили огромные шляпы. «Фи, как загорела, — презрительно говорили они про какую-нибудь юную красотку. — Как цыганка какая-то!» Модной считалась молочно-белая кожа — как раз такая, какая была у нашей мамы, и она рассказывала, что, просидев весь жаркий день дома, она только раз появлялась на солнце: накрыв лицо маской, оставляющей незакрытыми только щеки, она подставляла лицо солнечным лучам минут на пять, — появлялся восхитительный румянец на щеках, остальное же лицо оставалось белым. Мама и сейчас не проявляла восторга, внимая нашим причитаниям, что-де лето проходит, а мы все еще противно белые, незагорелые. «Это они все в отца такие смуглые, легко загорающие. Это им владела неистребимая страсть к солнцу, к загоранию — все они солнцепоклонники, дикари», — жаловалась мама знакомым.